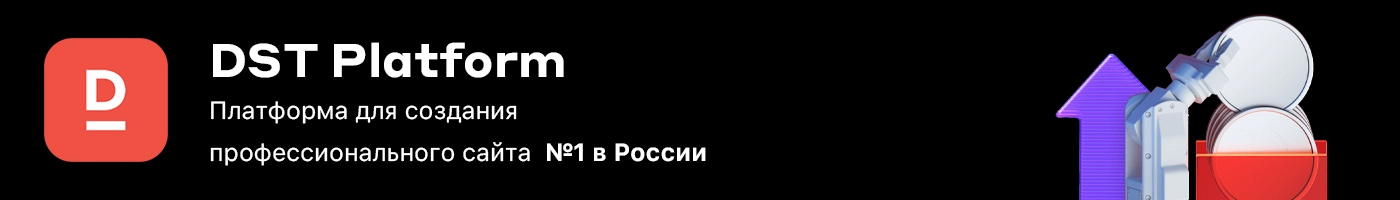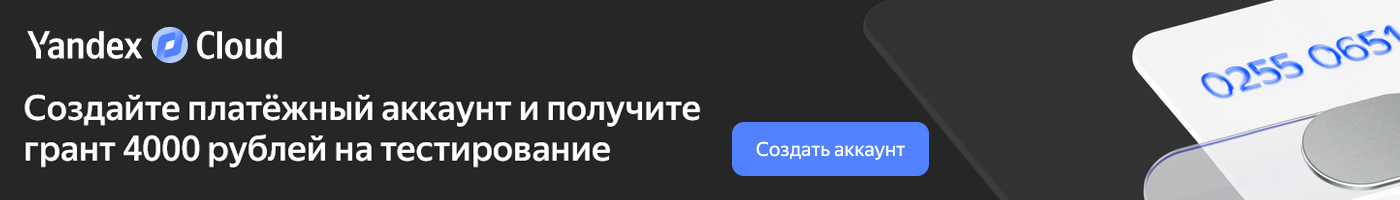Последние письма Ницше

1. Францу Овербеку
14 апреля 1887
Каннобио, вилла Бадиа
Дорогой друг,
с 3 апреля я здесь, на Лаго-Маджоре, деньги пришли ко мне вовремя, еще я порадовался тому, что ты выслал мне не всё, поскольку я и сегодня еще не знаю точно, где проведу лето. О моей старой доброй Зильс-Марии, как ни жаль мне это констатировать, придется забыть, равно как и о Ницце. В обоих этих местах мне не хватает сейчас наипервейшего и существеннейшего условия — одиночества, полного отсутствия помех, изоляции, дистанцированности, без которых я не могу углубляться в свои проблемы (поскольку, говоря между нами, я в прямо-таки пугающем смысле — человек глубины и без этой подземной работы более не в состоянии выносить жизнь). <…> Мне кажется, что я слишком мягок, слишком предупредителен по отношению к людям, и еще: где бы я ни жил, люди немедленно вовлекают меня в свой круг и свои дела до такой степени, что я в конце концов уже и не знаю, как защититься от них. Эти соображения удерживают меня, например, от того, чтобы наконец рискнуть с Мюнхеном, где меня ждет масса радушия и где нет никого, кто бы уважительно относился к наипервейшим и существеннейшим условиям моего существования или старался бы мне их обеспечить. Ничто не бесит людей так, как откровенная демонстрация того, что обращаешься с собой со строгостью, до которой они сами в отношении себя не доросли. <…> Покамест отсутствует вообще всякое понимание меня, и, если расчеты и предчувствия меня не обманывают, до 1901 года в этом отношении едва ли что изменится. Уверен, что меня бы просто сочли сумасшедшим, если бы я озвучил то, что думаю о себе. Оставляя относительно себя полную неопределенность, я проявляю свою «гуманность»: иначе я просто ожесточил бы против себя самых дорогих друзей и никого бы при этом не порадовал.
Тем временем я проделал серьезный объем работы по ревизии и подготовке новой редакции моих старых работ. Если мне скоро придет конец — а я не скрываю, что желание умереть становится все глубже, — все-такикое-что от меня останется: некий пласт культуры, заменить который до поры будет нечем. <…>
2. Карлу Фуксу
14 декабря 1887
Ницца
Дорогой и уважаемый друг,
это был очень верный момент для такого письма, как Ваше. Дело в том, что я, почти не желая того, но в силу безжалостной необходимости, нахожусь сейчас в процессе сведения счетов со всеми и вся и подведения итогов всего моего «предшествующего». Почти все, что я сейчас делаю, — это подведение черты. Масштаб внутренних потрясений все эти последние годы был чудовищным; и теперь, когда я должен перейти к новой и высшей форме, мне потребовалось прежде всего новое дистанцирование, некая высшая обезличенность. При этом сущностно важно <знать>, чтó и кто у меня еще остается.
Насколько я уже стар? Этого я не знаю, как и того, насколько молод я еще буду…
В Германии сильно жалуются на мои «эксцентричности». Но поскольку никто не знает, где мой центр, едва ли смогут разобраться с тем, где и когда я до сих пор бывал «эксцентричен». К примеру, будучи филологом, я явно находился вне своего центра (что, к счастью, совершенно не означает того, что я был плохим филологом). Точно так же сегодня мне представляется эксцентричностью то, что я был вагнерианцем. То был чрезмерно опасный эксперимент; теперь, когда я знаю, что не погиб от этого, мне известно и то, какой смысл это все имело для меня: то была самая серьезная проба моего характера. Правда, постепенно сокровеннейшее дисциплинирует нас снова в единство; та страсть, для которой так долго не можешь найти имени, та задача, миссионером которой невольно стал, спасает нас от всех отклонений и рассеяний. <…>
3. Элизабет Фёрстер
Декабрь 1887
Ницца
<черновик>
Меж тем мне черным по белому доказали, что господин доктор Фёрстер и по сию пору не порвал своих связей с антис<емитским> движением. Некий добропорядочный остолоп из Лейпцига (Фрицш, если мне память не изменяет) взялся теперь за эту задачу: до сих пор он регулярно, несмотря на мой энергичный протест, пересылал мне антис<емитскую> корреспонденцию (ничего более презренного я в жизни не читал). С тех пор мне стоит труда выказывать в отношении Тебя хоть в какой-то мере ту прежнюю нежность и трепетное чувство, которые я так долго к Тебе испытывал, разлад между нами абсурдным образом мало-помалу проявил себя именно в этом. Или Тебе совершенно невдомек, для чего я живу на свете?
Желаешь ознакомиться с каталогом воззрений, которые противоположны моим? Ты с легкостью найдешь их, одно за другим, в «Откликах на П<арсифаль>» своего супруга; когда я читал их, мне пришла в голову чудовищная мысль, что Ты ничего, ровным счетом ничего не поняла в моей болезни, как и в моем болезненнейшем и ошеломляющем опыте…
Теперь дошло до того, что я должен изо всех сил защищаться, чтобы меня не приняли за антисемитскую каналью; после того, как моя собственная сестра… дали повод к такой самой злосчастной из всех мыслимых ошибок. После того, как в антисемитской корреспонденции мне повстречалось даже имя З<аратустры>, мое терпение иссякло — теперь я занял глухую оборону против партии Твоего супруга. Эти проклятые антисемитские дурни не смеют прикасаться к моему идеалу!!! <…>
4. Райнхарду фон Зайдлицу
12 февраля 1888
Ницца
Дорогой друг,
отнюдь не «гордое молчание» сомкнуло мне уста, так что я в последнее время почти ни с кем не общаюсь, а, скорее, смиренное молчание страждущего, который стыдится демонстрировать свои страдания. Зверь, когда болен, залезает в пещеру — так же поступает и la bête философ. Дружеский голос так редко долетает до меня. Сейчас я одинок, абсурдно одинок, и в своей безжалостной подземной войне против всего, что до сих пор было чтимо и любимо людьми (моя формула для нее — «Переоценка всех ценностей»), сам незаметно стал чем-то вроде пещеры — чем-то потаенным, чего уже не найти, даже если специально отправиться на поиски. Но на поиски никто не отправляется… Говоря между нами тремя, не исключено, что я — величайший философ эпохи, а может быть, и нечто несколько большее, решающее и роковое, стоящее между двумя тысячелетиями. За такое исключительное положение приходится постоянно расплачиваться — все возрастающим, все более ледяным, все более исключающим тебя одиночеством. А наши милые немцы!.. В Германии, хотя мне идет уже 45-й год и я опубликовал примерно пятнадцать книг… ни разу еще не доходило хотя бы до одного хоть сколько-нибудьстоящего обсуждения хотя бы одной моей книги. Сейчас взяли на вооружение словечки «эксцентричный», «патологический», «психиатрический». Нет недостатка и в злобных и клеветнических намеках в мой адрес; в журналах, и научных и ненаучных, царит ничем не сдерживаемый враждебный тон — но как же это вышло, что ни одна собака не возражает против этого? Что ни один не чувствует себя задетым, когда меня поливают грязью? И уже годами — никакого утешения, ни капли человечности, ни дуновения любви.
<…>
Твой верный друг Ницше. <…>
5. Францу Овербеку
18 октября 1888
Турин
Дорогой друг,
вчера с Твоим письмом в руке я совершал свою привычную дневную прогулку за окраину Турина. Повсюду прозрачный октябрьский свет. В лесу, по которому меня около часа ведет прекрасная тропа почти вдоль берега По, осень еще едва ощутима. Я сейчас самый благодарный человек на свете и настроен по-осеннему во всех лучших смыслах этого слова: настала пора моей большой жатвы. Все мне легко, все удается… Что первая книга «Переоценки всех ценностей» готова, готова к печати, — об этом я сообщаю тебе с чувством, для которого не могу подыскать слов. Всего будет четыре книги — они выйдут порознь. На этот раз я, как старый артиллерист, демонстрирую свое тяжелое оружие: боюсь, что из него история человечества будет расстреляна напополам. — То произведение, на которое я Тебе намекнул в прошлом письме, скоро будет завершено… Твоя цитата из «Человеческого, слишком человеческого» пришла очень вовремя, чтобы ее можно было ввести в текст. Это произведение уже само по себе — стократное объявление войны, с отдаленными раскатами грома в горах. Против немцев я выступаю в нем полным фронтом: на «двусмысленность» тебе жаловаться не придется. Эта безответственная раса, у которой на совести все величайшие преступления против культуры, во все решающие моменты истории держала на уме, видите ли, нечто «иное» (Реформацию во времена Ренессанса, кантовскую философию — именно когда в Англии и Франции с таким трудом пришли к научному способу мышления; «освободительные войны» — по пришествии Наполеона, единственного, кто до сих пор был достаточно силен, чтобы преобразовать Европу в политическое и экономическое единство), — а сейчас, в момент, когда впервые поставлены величайшие вопросы о ценностях, у нее на уме «рейх», это обострение партикуляризма и культурного атомизма. Не бывало еще более важного момента в истории, но разве об этом кто знает? Это непонимание, которое мы сегодня видим, глубоко закономерно: в мгновение, когда невиданная прежде высота и свобода духовной страсти ухватывает высшую проблему человечества и требует приговора самой его судьбе, — в такой момент с особой отчетливостью должна выделяться всеобщая мелочность и тупость. Против меня пока еще нет ни малейшей враждебности: попросту нет еще ушей для чего-либо моего, следовательно — ни за, ни против…
<...>
6. Мальвиде фон Мейзенбуг
20 октября 1888
Турин
Высокочтимая подруга,
простите, если я еще раз возьму слово, — возможно, это в последний раз. Постепенно я обрубил почти все свои человеческие связи — из отвращения к тому, что меня принимают за нечто иное, чем я есть. Теперь на очереди Вы. Годами я присылаю Вам свои произведения — с тем, чтобы Вы наконец однажды, честно и наивно, заявили: «Меня приводит в ужас каждое слово». И здесь Вы были бы правы. Потому что Вы «идеалистка», я же обхожусь с идеализмом как с укоренившейся в инстинктах нечестностью, как со стремлением ни за что на свете не видеть реальности; каждая фраза моих произведений содержит презрение к идеализму. За всю историю человечества не было худшей напасти, чем эта вот интеллектуальная нечистоплотность; у всех реалий отняли их ценность тем, что выдумали «идеальный мир»… Вам непонятна моя задача? И что я называю словами «переоценка всех ценностей»? Почему Заратустра смотрит на добродетельных как на самую опасную породу людей? Почему он должен быть разрушителем морали? Вы забыли, что он говорит: «Сокрушите, сокрушите добрых и праведных»?
Мое понятие «сверхчеловека» Вы снова извратили для себя, чего я Вам никогда не прощу, в некое «возвышенное надувательство», из области сивилл и пророков; меж тем как всякий серьезный читатель моих произведений должен знать, что тип человека, который не вызовет у меня отвращения, — это как раз противоположность добрым кумирам прошлого, во сто крат ближе типу Цезаря Борджиа, чем Христа. Когда же Вы в моем присутствии на одном дыхании упоминаете славное имя Микеланджело и такое насквозь лживое и нечистоплотное создание, как Вагнер, — право же, лучше я избавлю Вас и себя от того, чтобы называть мое чувство своим именем. Практически насчет каждого Вы всю жизнь строили себе иллюзии. Немало бед, в том числе и в моей жизни, проистекают из того, что Вам доверяют, — в то время как Ваши суждения абсолютно недостоверны. И под конец Вы запутались, где Вагнер, а где Ницше!.. Вы так и не уразумели, чтó это за отвращение, с которым я, как и всякий порядочный человек, повернулся спиной к Вагнеру 10 лет назад, когда это мошенничество стало осязаемым. Вам не знакомо то глубочайшее огорчение, с которым я, как и все честные музыканты, наблюдаю за распространением этой чумы вагнеровской музыки, за тем, как она наводит порчу на музыкантов? <…> Вы никогда не понимали ни единого моего слова, ни единого моего шага: тут ничего не поделаешь, и в это нам придется внести ясность — «Случай Вагнера» для меня еще и в этом смысле оказался удобным случаем.
Фридрих Ницше
7. Элизабет Фёрстер
Ноябрь 1888
Турин
Моя сестра!
Я получил Твое письмо и, после того как несколько раз его перечитал, вижу себя всерьез поставленным перед необходимостью проститься с Тобой. Сейчас, когда решилась моя судьба, каждое Твое слово, обращенное ко мне, я воспринимаю стократ острей: у Тебя нет ни малейшего представления о том, что Ты находишься в ближайшем родстве с человеком и судьбой, в которых разрешился вопрос тысячелетий, — в моих руках, если говорить совершенно буквально, будущее человечества… Я понимаю, как это вышло, что именно Тебе, в силу совершеннейшей невозможности видеть вещи, в которых я живу, пришлось бежать едва ли не в мою противоположность. Что меня при этом успокаивает, так это мысль, что Ты устроила жизнь по-своему верно, что у Тебя есть кто-то, кого Ты любишь и кто любит Тебя, что Тебе предстоит выполнить значительную миссию, которой посвящены Твои возможности и силы, — наконец, о чем я не хочу умалчивать, что именно эта миссия увела Тебя изрядно далеко от меня, так что первое потрясение от того, что теперь, возможно, произойдет со мною, Тебя не затронет. — Как раз этого я желаю ради Тебя; перво-наперво я горячо прошу Тебя не идти на поводу у дружеского и в данном случае действительно опасного любопытства и не читать тех сочинений, которые я сейчас публикую. Они могут чрезмерно ранить Тебя… В этом смысле я сожалею даже о том, что отправил Тебе работу о Вагнере, а ведь она явилась для меня сущим благодеянием среди того неимоверного напряжения, в котором я живу, — как благородная дуэль психолога с лицемерным соблазнителем, которого никому не удавалось раскусить.
К вящему успокоению, могу сказать о себе, что мое состояние превосходно, исполнено таких твердости и терпения, каких у меня не было за всю прежнюю жизнь; что легким стало самое тяжкое, что мне удается все, за что я ни возьмусь. А ведь задача, которая возложена на меня, — это моя собственная природа, так что я только сейчас смог уразуметь, чем было мое, предназначенное мне счастье. Я играю с глыбами, которые раздавили бы любого смертного… Ибо то, что мне предстоит совершить, — ужасно во всех смыслах слова: я выдвигаю свое страшное обвинение не против кого-то в отдельности, но против человечества в целом; и каким бы ни был приговор — в мою пользу или против меня, — в любом случае с моим именем будет связано несказанно много бед… Поэтому я от всего сердца прошу Тебя видеть в этом письме не жестокость, но ее противоположность, настоящую человечность, которая старается уменьшить масштаб грядущего бедствия…
Твой брат
8. Козиме Вагнер
3 января 1889
Турин
Принцессе Ариадне, моей возлюбленной,
это предрассудок, будто бы я человек. Но я уже не раз жил среди людей и знаю все, что может выпасть людям. Среди индусов я был Буддой, в Греции — Дионисом, Александр и Цезарь — также мои инкарнации, равно как и творец Шекспира лорд Бэкон. Наконец, я был еще Вольтером и Наполеоном, может быть, также Рихардом Вагнером… В этот раз я прихожу как победоносный Дионис, который сделает Землю праздником… Не сказать, чтобы у меня было много времени… Небеса радуются, что я здесь… А еще я висел на кресте…
9. Умберто I
4 января 1889
Предположительно, Турин
Мир Тебе! Я приезжаю во вторник в Рим и хочу видеть Тебя рядом с Его Святейшеством Папой.
Распятый
10. Якобу Буркхардту
6 января 1889
Турин
Дорогой господин профессор,
в конечном счете меня гораздо больше устроило бы оставаться базельским профессором, чем Богом; однако я не посмел заходить так далеко в своем личном эгоизме, чтобы ради него поступиться сотворением мира. Видите, приходится чем-то жертвовать, чем бы и когда бы ни жил. Все же я снял себе студенческую комнатку напротив дворца Кариньяно (где я родился Виктором Эммануилом), в которой, сидя за рабочим столом, я могу слышать прекрасную музыку из галереи Субальпина подо мною. Я плачу за все вместе с обслугой 25 франков, сам покупаю себе чай и все что нужно, мучаюсь с дырявыми сапогами и ежеминутно благодарю небо за старый мир, для которого люди были недостаточно просты и спокойны. Поскольку предстоящую вечность я осужден перебиваться скверными анекдотами, то я занимаюсь тут писаниной, лучше которой и не придумаешь, очень милой и совершенно необременительной. <…>
Что, однако, неприятно и задевает мою скромность, так это то, что, в сущности, каждая историческая фигура — это я; даже с детьми, которых я произвел на свет, дело обстоит так, что я с некоторым недоверием вопрошаю себя: не из Бога ли и вышли все, кто внидет в «царство Божие»? Этой осенью, одетый самым жалким образом, я дважды присутствовал на своих похоронах… <…>
…Вам пристала любая критика. Я буду признателен, хотя и не смогу обещать, что извлеку урок. Мы, художники, необучаемы. Сегодня я смотрел свою оперетту — гениально-мавританскую, — по этому случаю также с удовольствием констатировал, что и Москва, и Рим нынче грандиозны. Видите, мне и по части пейзажей не откажешь в таланте. Решайтесь, мы чудно, просто расчудесно поболтаем, Турин недалеко, особенно серьезных деловых обязательств не предвидится, бокал вельтлинера мы раздобудем. Подобающая форма одежды — неглиже.
С искренней любовью Ваш
Ницше