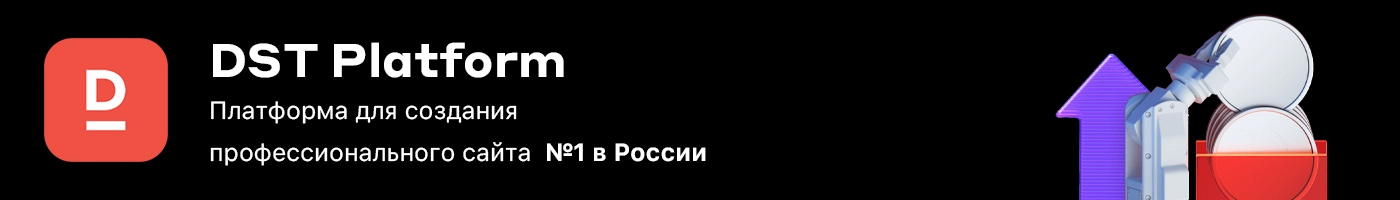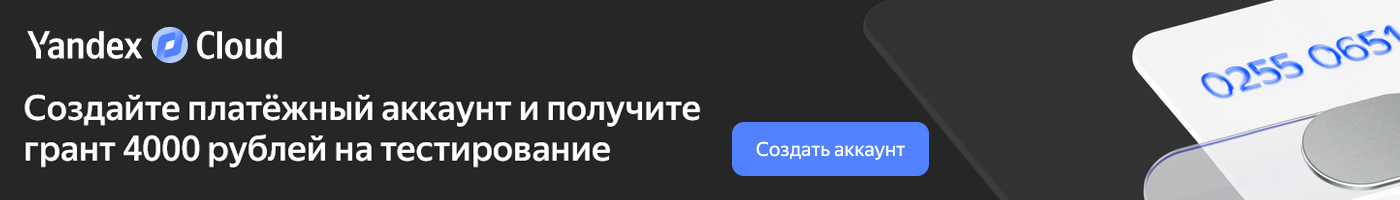Архитектура языка и его роль в эволюции
 dissident
dissident

Очевидно, что рациональное исследование эволюции какой-либо системы может проводиться лишь тогда, когда ясна ее природа. Не менее очевидно, что без глубокого понимания фундаментальной природы какой-либо системы ее внешние проявления будут казаться хаотическими, изменчивыми и лишенными общих свойств. Тогда, соответственно, невозможно всерьез изучать эволюцию этой системы. И конечно, такое исследование должно четко придерживаться фактов, известных из эволюционной истории. Эти принципы применяются и при изучении человеческой языковой способности, и в отношении других биологических систем. Изложенные в литературе теории можно оценивать, исходя из того, насколько они удовлетворяют данным условиям.
Проблема эволюции языка появилась на повестке дня в середине XX века. Тогда были сделаны первые попытки построить теорию языка как биологического объекта, внутреннего по отношению к индивиду, с учетом свойства, которое мы называем базовым (каждый язык порождает дискретно-бесконечный набор иерархически структурированных выражений, которые определенным образом интерпретируются на интерфейсах с двумя другими внутренними системами — сенсомоторной системой, служащей для экстернализации, и концептуальной системой, служащей для умозаключения (inference), интерпретации, планирования, организации действий и других элементов того, что в общих чертах называется мышлением). Подход к изучению языка с учетом этих установок известен под названием биолингвистической программы.
Язык, который рассматривается с этой точки зрения, в современной терминологии называется внутренним (internal) языком, I-языком. В силу базового свойства каждый I-язык — это система «слышимых знаков мысли», как выразился великий индоевропеист Уильям Дуайт Уитни (Whitney, 1908: 3), хотя теперь известно, что экстернализация может и не ограничиваться только артикуляционно-слуховой модальностью.
По определению теорией какого-либо I-языка является его порождающая грамматика, а общая теория I-языков — это универсальная грамматика (UG), переносящая традиционные понятия в новый контекст. UG — это теория наследственного компонента языковой способности, то есть способности усваивать различные I-языки и пользоваться ими. UG задает класс порождающих процедур, которые удовлетворяют базовому свойству, и класс атомарных элементов, поступающих на вход вычислительных операций.
Атомарные элементы вызывают много вопросов. Минимальные значимые элементы человеческих языков (словоподобные, но не тождественные словам) радикальным образом отличаются от всего, что можно встретить в системах коммуникации животных. Их происхождение совершенно неясно, и для науки об эволюции человеческих когнитивных способностей, в частности об эволюции языка, это представляет серьезную проблему. Соображения на данную тему высказывались еще досократиками и впоследствии были развиты крупными философами раннего Нового времени и Просвещения, а также исследователями позднейших времен, и все равно здесь остается множество загадок. В сущности, проблема при всей ее серьезности до сих пор недостаточно хорошо определена и понята. Пристальный анализ показывает, что широко распространенные учения о природе этих элементов не выдерживают критики (особенно известная доктрина теории прямой референции, в соответствии с которой слова указывают на внементальные объекты). Об этих очень важных вопросах следовало бы сказать гораздо больше, но мы оставим их в стороне и лишь заметим еще раз, что проблемы, стоящие перед наукой об эволюции когнитивных способностей человека, куда серьезнее, чем обычно думают. Второй компонент UG — теория порождающих процедур — только с середины XX века впервые стал предметом исследований. К тому времени работы Геделя (Godel), Тьюринга (Turing), Черча (Church) и других ученых заложили прочный фундамент для общей теории вычислений, что позволило начать работу в рамках генеративной грамматики, уже совершенно ясно представляя себе, какой аппарат следует задействовать. Порождающие процедуры, которые входят в состав I-языков, должны удовлетворять определенным эмпирическим условиям: во-первых, по крайней мере некоторые из них выучиваемы (learnable) [1 ], во-вторых, способность усваивать I-языки и пользоваться ими очевидным образом эволюционировала.
Скажем сначала о выучиваемости. Усвоение I-языка, очевидно, основано на: 1) генетических ограничениях, заложенных в UG; 2) каких-то принципах, независимых от языка. Хорошо известно, что языковая способность обособлена от других когнитивных способностей. Еще полвека назад это установил Леннеберг (Lenneberg, 1967), и с тех пор было получено много новых данных (см. обзор в: Curtiss, 2012). Этот факт наряду с пристальным анализом свойств языков предполагает, что второе из названных оснований, скорее всего, представляет собой принципы, независимые от организма, а не другие когнитивные процессы. Вероятно, что для вычислительной системы, такой как I-язык, это в том числе принципы вычислительной эффективности, обусловленные законами природы. Исследование выучиваемости также должно учитывать следующий факт: то, что быстро усваивается, выходит далеко за рамки доступной ребенку реальности (это вполне обычная ситуация во время роста биологической системы).
Говоря об эволюции, следует прежде всего прояснить, что подверглись эволюции не сами языки, а языковая способность, то есть UG. Языки меняются, но не эволюционируют. Не выглядит удачной идея делить эволюцию языков на биологическую и небиологическую (термин Джеймса Херфорда), ведь последняя — вообще не эволюция. Сделав эти оговорки, будем пользоваться общепринятым термином «эволюция языка», хотя иногда он может вводить в заблуждение.
дин факт об эволюции языка, который выглядит бесспорным, таков: минувшие 60 000 лет или дольше (с тех пор как последние наши предки мигрировали из Африки) эволюции не происходило. Не известно никаких межгрупповых различий в проявлении языковой способности и когнитивных способностей вообще, как указал тот же Леннеберг (Lenneberg, 1967) и как мы отмечали в главах 1 и 2. Другой факт, на который можно сослаться (правда, с меньшей уверенностью), состоит в том, что еще незадолго до указанного времени язык, возможно, вообще не существовал. Имеющиеся на сегодняшний день сведения позволяют резонно предположить, что язык (или более точно — UG) возник в какой-то момент на протяжении весьма короткого отрезка эволюционного времени (вероятно, около 80 000 лет назад) и с тех пор не эволюционировал. В обширной литературе, посвященной эволюции языка, эта гипотеза иногда характеризуется как антидарвинистская, или отвергающая эволюционную теорию, но такая критика основана на серьезном непонимании современной биологии, что обсуждается в главах 1 и 4.
Помимо двух этих фактов — одного засвидетельствованного и одного правдоподобного, — известно очень мало. Создается впечатление, что с другими сложными когнитивными способностями человека дела обстоят точно так же. Для изучения эволюции языка это очень слабый базис. Отсюда, однако, следует одно предположение: эволюционирующий объект, то есть UG, должен быть в основе своей очень простым. Если это верно, то наблюдаемую сложность и разнообразие языков можно вывести из изменений, произошедших уже после завершения эволюции языковой способности, и все это, вероятно, локализовано в периферийных компонентах системы, которые, быть может, и вовсе не эволюционировали. (Мы еще вернемся к этому вопросу.) Нужно еще учесть, как уже говорилось, что за видимой сложностью и разнообразием стоит недостаточное понимание — в науке такое случается. Как только в середине XX века были предприняты первые попытки создания порождающих грамматик, сразу же обнаружилось, что о языках (даже хорошо изученных) известно очень мало. Более того, многие свойства, обнаруженные при внимательном исследовании, оказались необъяснимыми и до сих пор остаются без объяснения (как и более новые проблемы, накопленные впоследствии).
В то время казалось необходимым приписать UG колоссальную сложность, чтобы охватить эмпирический материал языков и их разнообразие. Однако всегда было понятно, что эта точка зрения не может быть верна. UG должна быть способной к изменениям, и чем она сложнее, тем тяжелее будет объяснить ее эволюцию (на это указывает малочисленность научных данных об эволюции языка).
Поэтому наряду с общими соображениями рациональности исследования в работах по изучению I-языка и UG с самого начала делались попытки снизить сложность принимаемых допущений о природе и разнообразии данных феноменов. Мы не будем подробно расписывать историю планомерного развития этого направления исследований, в частности произошедшую в начале 1980-х годов кристаллизацию теории принципов и параметров. Она помогла взглянуть на проблему усвоения языка в обход тех сложностей, которые ранее казались непреодолимыми, а также способствовала увеличению объема эмпирических данных и достижению невообразимой ранее глубины исследований. К началу 1990-х годов некоторые исследователи решили, что накоплено уже достаточно данных для того, чтобы взяться за упрощение UG иным образом: сформулировать идеальный случай и задаться вопросом, насколько язык близок к этому идеалу, а затем постараться устранить многочисленные несоответствия. Эта попытка, которая стала известна под названием минималистской программы, продолжает тему развития генеративной грамматики от самых ее истоков.
Оптимальной была бы такая ситуация: UG сводится к простейшим вычислительным принципам, которые действуют в соответствии с условиями эффективности вычислений. Эту гипотезу иногда называют сильным минималистским тезисом (Strong Minimalist Thesis, СМТ). Еще не так давно СМТ показался весьма необычным. Но в последние годы накопилось немало фактов, свидетельствующих, что это направление исследований может быть довольно перспективным. Если бы эта гипотеза подтвердилась, нас ждало бы важное открытие, которое помогло бы продвинуться в изучении эволюции языка. Мы вернемся к этому вопросу чуть позже. А сейчас скажем пару слов о предыстории современных исследований эволюции языка.
Мы уже упоминали, что проблема эволюции UG возникла около 60 лет назад, как только была сформулирована исследовательская программа биолингвистики. Но эта же проблема обсуждалась и гораздо раньше, когда язык рассматривался как внутренний биологический объект. Очевидно, что, если определять язык каким-то иным образом, невозможно всерьез обсуждать его эволюцию. Индоевропеисты XIX века часто рассматривали язык в интерналистских терминах как биологическое свойство индивида, но на пути изучения его эволюции имелись препятствия. Минимальный набор условий, приведенный в начале этой главы, не был выполнен, в частности, отсутствовало ясное (удовлетворяющее базовому свойству) понимание природы эволюционирующей системы. В 1866 году Парижское лингвистическое общество наложило запрет на рассмотрение работ о происхождении языка. Поддержал это решение крупный ученый Уильям Дуайт Уитни, по словам которого, «из всего, что говорят и пишут на эту тему, большая часть — отвлеченная болтовня» (Whitney, 1893: 279). Эта оценка до сих пор заслуживает внимания.
Общепринятую версию дальнейшего развития событий добросовестно изложила Джин Этчисон в сборнике «Подходы к эволюции языка» (Approaches to the Evolution of Language), который вышел в 1998 году под редакцией Джеймса Херфорда, Майкла Стаддерта-Кеннеди и Криса Найта. От упомянутого запрета, наложенного на тему эволюции языка, она сразу переходит к 1990 году, когда, по ее словам, после выхода статьи Стивена Пинкера и Пола Блума «все изменилось». Затем Этчисон цитирует хвалебный отзыв Херфорда о работе Пинкера — Блума, которая, по словам Херфорда, «разрушила некоторые из интеллектуальных преград, стоявших на пути понимания relation между эволюцией и языком» (Hurford, 1990: 736). В статье Пинкера — Блума, как пишет Этчисон, «подчеркивалось, что язык эволюционировал с помощью обычных эволюционных механизмов, и отмечалось, что “имеется множество новых и заслуживающих доверия научных данных, относящихся к проблеме эволюции языка, которые все еще не синтезированы должным образом”» (Pinker & Bloom, 1990: 729). После этого, согласно излагаемой версии, научная область, занимавшаяся вопросами эволюции языка, стала расти и превратилась в процветающую дисциплину.
С нашей точки зрения, вся эта история выглядит иначе, но не только потому, что скептическая оценка Уитни была верна. В течение всего периода структурализма, которого Уитни уже не застал, язык не рассматривался как биологический объект, поэтому вопрос о его эволюции не затрагивался. Среди европейских структуралистов была широко распространена соссюровская концепция языка как социального явления (по выражению самого Соссюра, сокровищницы словесных образов, которая «в силу своего рода договора» существует в головах у целого коллектива индивидов (Соссюр, 1916/1999: 21–22)). Американские структуралисты следовали за Леонардом Блумфилдом, который характеризовал язык как свод навыков реагирования конвенциональными речевыми звуками — на ситуации, а действиями — на речевые звуки; по другому определению язык — это «совокупность высказываний, которые могут быть произнесены в речевой общности» [2 ] (Звегинцев, 1965: 201). Что бы в этих формулировках ни понималось под языком, это не биологические объекты.
Обстоятельства изменились в середине века, когда были предприняты первые попытки исследовать I-язык в терминах, удовлетворяющих базовому свойству. Как мы уже упоминали, проблема эволюции языка сразу же попала на повестку дня, но всерьез подступиться к ее решению было невозможно. В те годы основной задачей было построить теорию языка, достаточно богатую для того, чтобы с ее помощью описывать факты, обнаруживаемые в разнообразных языках. Но чем богаче UG, тем больше ограничена способность к развитию и, соответственно, тем меньше можно сделать.
Как обсуждалось в главе 1, важный шаг в этом направлении сделал Эрик Леннеберг. Его книга «Биологические основания языка» (1967) положила начало современным исследованиям по биологии языка. В этой работе серьезно обсуждалась эволюция языковой способности, было высказано немало ценных догадок и предложен довод в пользу прерывистого характера эволюции языка. Однако основополагающая проблема сложности UG никуда не делась.
В последующие годы проводились международные и региональные научные конференции биологов, лингвистов, философов и когнитивистов. На них обсуждалась проблема эволюции языка, но по тем же причинам практически безрезультатно. Один из авторов (Хомский) совместно с эволюционным биологом Сальвадором Лурия в 1970-е годы в Массачусетском технологическом институте вел семинар по биологии языка. Некоторые участники семинара позже продолжили работать в этой области как исследователи. Эволюция языка была одной из главных тем семинара, но опять же по существу вопроса сказано было мало.
Комментаторы, в том числе историки лингвистической науки, иногда отмечают, что в ранней литературе по генеративной грамматике почти не затрагиваются вопросы эволюции языка. Это так, но причины, видимо, не для всех очевидны. Тема эволюции языка обсуждалась начиная с первой половины 1950-х годов, затем в книге Леннеберга 1967 года, а также другими исследователями на конференциях, но по причинам, названным выше, никаких особенно ценных выводов на основе этих материалов сделать было невозможно, отсюда и малочисленность упоминаний в литературе.
В 1990-е годы, в сущности, не так уж и много «новых и заслуживающих доверия научных данных, относящихся к проблеме эволюции языка», нуждалось в синтезе. Также не оставалось больше никаких «интеллектуальных барьеров». Однако несколько изменений в это время все же произошло. Одно мы уже упомянули: прогресс в изучении UG позволил предположить, что могут быть верны СМТ или родственная гипотеза, а значит, можно преодолеть серьезное препятствие на пути исследования эволюции языка. Во-вторых, вышла очень важная статья эволюционного биолога Ричарда Левонтина (Lewontin, 1998), в которой подробно объяснялось, почему для изучения когнитивных способностей, в частности языка, не годится ни один из существовавших в то время подходов. В-третьих, стали массово публиковаться статьи и книги об эволюции языка, но во всех них игнорировались убедительные доводы Левонтина (и в этом, по нашему мнению, их большой недостаток) и почти во всех, за редким исключением, не учитывались достижения в осмыслении UG, которые могли хотя бы частично помочь в изучении данного вопроса.
Широко распространено мнение, что никакой UG не существует. По выражению Майкла Томаселло, UG мертва (Tomasello, 2009). Если так, то, конечно, нет и вопроса об эволюции UG (то есть об эволюции языка в его единственно возможной трактовке). Тогда возникновение языка нужно свести к эволюции когнитивных процессов вообще, а ее невозможно изучать всерьез по тем причинам, которые объяснил Левонтин. Придется также проигнорировать большой массив данных, демонстрирующих, что языковая способность обособлена от других когнитивных процессов, и отмахнуться от того факта, что UG присуща только человеку (а ведь это ясно с самого момента рождения). Новорожденный младенец сразу же начинает выбирать из окружающей среды относящиеся к языку данные (это уникальная особенность). Имея приблизительно такую же слуховую систему, обезьяна слышит только шум. Затем ребенок начинает усваивать язык в систематическом режиме, что свойственно только людям. Это явно выходит за рамки любого общего механизма научения, начиная с усвоения слов и заканчивая синтаксической структурой и семантической интерпретацией.
Грандиозный расцвет научной области, которая прежде едва была обозначена, поднимает ряд интересных вопросов о социологии науки, но мы не будем их затрагивать. Вместо этого обратим внимание на общий подход к решению этих вопросов, который выглядит продуктивным, но подчеркиваем, что наши взгляды далеки от общепризнанных.
Если СМТ верен, самое меньшее, что мы можем сделать, — это сформулировать проблему эволюции языковой способности, стараясь избегать противоречий. Зададимся вопросом, какие выводы об эволюции языка следуют из допущения, что СМТ близок к правде.
Всякая вычислительная система содержит операцию, которая применяется к двум уже готовым объектам X и Y и строит из них новый объект Z, — операцию соединения (Merge). СМТ требует, чтобы операция соединения проходила как можно проще, не видоизменяла X или Y и оставляла объекты неупорядоченными (это важный момент, к которому мы вернемся). Таким образом, соединение — это просто образование множества: соединение X и Y дает множество {X, Y}. В таком виде соединение — отличный кандидат на роль простейшей вычислительной операции. Некоторые ученые утверждают, что конкатенация еще проще. Это неверно. Конкатенация опирается на соединение или похожую операцию, а также на порядок элементов и какой-либо принцип стирания структуры, подобный тем правилам, которые оставляют только строку терминальных символов от помеченного дерева, порождаемого контекстно-свободной грамматикой [3 ]. Можно предположить, что вычислительный процесс работает следующим образом. Есть рабочая память (workspace), которая имеет доступ к лексикону атомарных элементов и в которой находится любой вновь построенный объект. Чтобы сделать очередной шаг вычислений, из рабочей памяти выбирается элемент X и затем еще один элемент Y. Может оказаться, что X и Y — два совершенно разных элемента, например read («читать») и books («книги»), соединение которых дает синтаксический объект read books («читать книги»). Это наружное соединение (External Merge). А может оказаться, что один элемент — часть другого. Тогда это внутреннее соединение (Internal Merge). Например, в случае, когда he will read which books (букв.: «он будет читать какие книги») соединяется со своей частью which books («какие книги») и дает на выходе сочетание which books he will read which books (букв.: «какие книги он будет читать какие книги»), как в предложении Guess which books he will read («Угадай, какие книги он будет читать») или (в результате действия других правил) Which books will he read? («Какие книги он будет читать?»). Это пример вездесущего эффекта дислокации (displacement): словосочетания произносятся в одном месте, а интерпретируются в другом. Долгое время считалось, что дислокация — это изъян языка. Но на самом деле вовсе не так: это автоматически возникающий побочный эффект простого вычислительного процесса.
Итак, соединение he will read which books и which books дает which books he will read which books с двумя копиями словосочетания which books. Причина в том, что соединение не меняет самих соединенных элементов. Как оказывается, это очень важно. Копирующее свойство внутреннего соединения обусловливает интерпретацию выражений с дислокацией, причем это влияние существенно и имеет довольно широкий диапазон. Предложение Which books will he read? мы понимаем приблизительно так: «Для каких книг x верно, что он будет читать книги x?» Здесь словосочетанию which books приписываются различные семантические роли в двух позициях. Весьма сложные свойства интерпретации предложений непосредственно вытекают из этих наиболее вероятных предположений о вычислениях.
Приведем простой пример. Рассмотрим предложение The boys expect to meet each other («Мальчики ожидают встретить друг друга» [4 ]). Его смысл можно передать так: «Каждый из мальчиков ожидает встретить остальных мальчиков». Поместим это предложение в контекст I wonder who… («Интересно, кто…»). Получится I wonder who the boys expect to meet each other («Интересно, кто, как ожидают мальчики, встретит друг друга»). Прежняя интерпретация исчезает. Теперь словосочетание each other («друг друга») относится к далеко стоящему элементу who («кто»), а не к более близкому элементу the boys («мальчики»). Причина в том, что для нашего сознания, в отличие от нашего уха, элемент who на самом деле ближе к each other, так как ментальное выражение имеет вид I wonder who the boys expect who to meet each other благодаря копирующему свойству внутреннего соединения.
Теперь более сложный пример — предложение Which one of his paintings did the gallery expect that every artist likes best? («Какое из его полотен, как ожидал музей, каждому художнику нравится больше всего?» [5 ]). Ответ может быть таким: his first one («его первое (полотно)»). Кванторная группа every artist («каждому художнику») связывает местоимение his («его») в группе which one of his paintings («какое из его полотен»). Но в похожем по структуре предложении One of his paintings persuaded the gallery that every artist likes flowers («Одно из его полотен убедило музей, что каждому художнику нравятся цветы» [6 ]) такая интерпретация невозможна. Причина — копирующее свойство внутреннего соединения (дислокация). Наш разум получает это предложение в следующем виде: Which one of his paintings did the gallery expect that every artist likes which one of his paintings best (букв.: «Какое из его полотен, как ожидал музей, каждому художнику какое из его полотен нравится больше всего»). Это вполне нормальная конфигурация для связывания квантором (ср.: Every artist likes his first painting best («Каждому художнику первое из его полотен нравится больше всего»)).
Чем сложнее предложение, тем больше тонкостей. Ни один из этих вариантов нельзя получить с помощью индукции, путем статистического анализа больших данных или благодаря другим общим механизмам, зато, предполагая истинность СМТ, в значительной доле случаев результаты можно вывести из фундаментальной архитектуры языка.