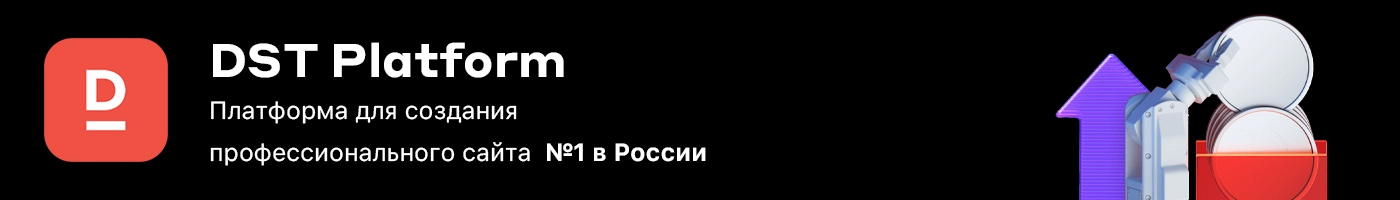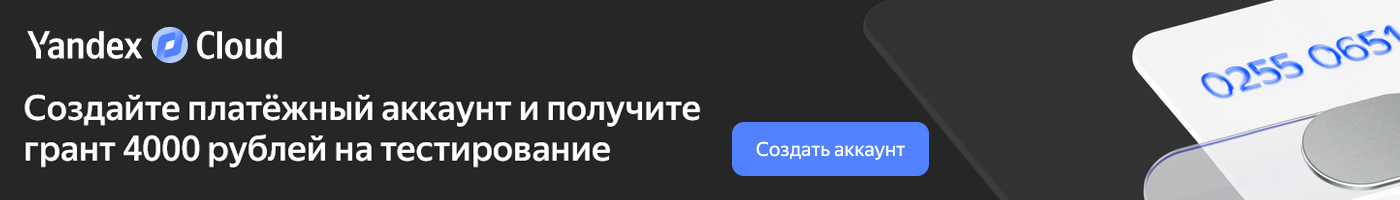Свой театр. Интервью с Марией Смольниковой

В октябре в Музее Москвы — премьера проекта режиссера Дмитрия Крымова и продюсера Леонида Робермана «Борис» по мотивам исторической драмы Александра Сергеевича Пушкина. Лжедмитрия в нем играет Мария Смольникова. Мы поговорили с актрисой о классике, другом театре Ивана Вырыпаева и Дмитрия Крымова и формировании смыслов с помощью подкладывающихся в платье подушечек.
Репетиция «Бориса»
Репетиция «Бориса»
Лжедмитрий — это ведь не первая ваша мужская роль. Был уже Ленин в спектакле «Горки-10» в Школе драматического искусства?
Да. Я люблю мужские роли, это всегда вызов. Искусство стирает границы — именно в театре, в кино-то вряд ли сыграешь мужчину. А в театре кажется, что все возможно. От этого радостно.
Репетиции уже идут?
У нас был первый блок. Что-то стало понятнее. Мы нащупываем язык, ритм этой истории. Спектакль по Пушкину, но, как всегда, это будет самостоятельная драма Крымова, которую он придумает, опираясь на пушкинский текст.
Пушкин ведь — это еще и определенный взгляд на ситуацию.
Да. Разбираясь в деталях, я поняла, что версий море, и спустя столько лет докопаться до мотивации всех этих людей невозможно. Были пожары в Москве, многие документы просто сгорели. К тому же часто в летописи пишется то, что выгодно кому-то. Поэтому искать правду нет смысла, можно только на основе этой истории переосмыслить сегодняшний день и понять, что многое остается неизменным.
У вас была своя версия событий?
Я об этом не думала. Помнила о Годунове что-то из школы. У нас была замечательная учительница истории, и я на урок приходила — как на сериал. Но я люблю свою работу за то, что она меня наталкивает на темы, и приходится — и хочется! — читать дополнительную литературу, чтобы «сделать» персонажа.
Репетиция «Бориса»
Судя по ролям, вам приходится читать много русской классики.
Я ее очень люблю. Если взять пьесу Островского и прочитать ее пять раз, с каждым разом будешь замечать новое. Вообще первый раз я читаю поверхностно. Чтобы что-то понять, мне надо вчитываться, начать переписывать. Когда ты пишешь от руки, обстоятельства обретают реальность. И в мозгу это по-другому откладывается.
Вы ведь начали играть еще в детстве?
Да. Мама отдала меня в экспериментальную школу, где с первого класса была театральная студия. Там работали люди, любящие театр, постоянно что-то выдумывающие. И такое идейное окружение стало для меня нормой жизни. Я только сейчас могу это до конца оценить. Многих в детстве окружают люди, которым приходится выживать, и там не до идей, важна прагматичность. С другой стороны, у меня в семье не было ни актеров, ни режиссеров, а мне кажется, актерская кровь помогает, это заметно — на примере Ефремовых, скажем. Или вот Даня Стеклов, сын Грани Стекловой. Я ему верю. Как будто бы какой-то бонус. Это не значит, что надо расслабиться. Нужно трудиться усердно и куда-то себя направлять. Но что-то в них есть другое, в представителях актерских династий.
Благодаря тому, что заложила ваша школа, вы не сдавались и поступали в театральный несколько раз?
Благодаря этому у меня было столько радости, я понимала, что у меня что-то получается. А что я еще могу делать, я не знала. Но все правильно сложилось. За два года, когда не поступала, я подросла, а на третий оказалась у своего человека. На свой экспериментальный первый курс, где учились вместе сценографы, режиссеры и актеры, меня взял Евгений Каменькович. Он набирал актеров, которые должны были быть в распоряжении режиссеров, но параллельно успевать заниматься своей профессией. Я так хотела учиться, что, когда поступала, приносила этюды один за другим, мне уже говорили: «Маша, хватит, не надо». А когда училась, предполагалось, что тебя должны в отрывок брать режиссеры. А если они не брали, я действовала сама. Мне было это очень интересно — придумать решение для отрывка. Наверное, Крымов что-то почувствовал, и мы сошлись. Я очень много придумываю для своих ролей. Хотя он ведет, у него всегда есть интуитивная идея.
Как вы придумывали роль в спектакле «О-й. Поздняя любовь»?
Там очень много шло от обстоятельств. У Людмилы сложная история. Она живет с папой-адвокатом, который из-за своей честности потерял все: любовь, жену, карьеру. И не наложил на себя руки только из-за дочери. Он ее постоянно называет «ангел», потому что она его спасла. Дать он ей много не может. Эта девочка выросла в очень стесненных обстоятельствах, но в большой любви к отцу, единственному близкому человеку. Мне было интересно найти в этом персонаже греховность. В чем она отрицательна? Там она описывается как ангел. Ангела играть скучно, и это неправда. Мы бы тогда не жили здесь, человек изначально греховен, даже если он хороший и чистый. Значит, где-то есть червоточинка, внутреннее противоречие, контрапункт жизни, который мне всегда интересно откапывать. У Людмилы нет возможности ухаживать за собой, так что она за естественность — почему и брови такие густые, невыщипанные. Читая книжки, она посадила зрение и носит очки. Еще у нее длинная коса и большая грудь, я подкладываю подушечки. Вообще у нее очень красивая фигура, и в другой ситуации она сделала бы из себя секс-бомбу. Но так как она росла с отцом, и возможностей нет, и мировоззрение другое, и ум в приоритете, то выглядит она аскетично. А большая грудь — как намек на что-то несбывшееся. Формулируя идею, Крымов говорил, что любовь в этой пьесе — как бабочка, вдруг залетевшая в необжитое пространство. Может быть, и поздно, и уже невозможно для девушки, но любовь же не спрашивает.
Героинь современных пьес вы так же подробно разбираете?
Я современные пьесы вообще не люблю. Я не вижу там столько пластов, сколько в классике. И много чернухи. Да, они изображают то, что есть в реальности, но так не взлететь. А в искусстве и театре хочется же летать. Я не специалист, просто желания узнать больше про современную драматургию не было. Но мне очень нравится Иван Вырыпаев.
Почему?
У него свой стиль. Когда он работал в «Практике», я приходила к нему на спектакли и понимала, что это не мой театр. Когда люди просто читают тексты, мне не хватает в этом собственно людей. Для меня театр тем и ценен, что хочешь почувствовать контакт. Когда я смотрю на Константина Райкина, он как будто со мной, близко, и мне тепло. А тут другой способ — может быть, больше через голову, но он потом тоже попадает в сердце. Вырыпаев изобрел свой способ говорить о важных вещах, которые его волнуют. Я слушаю его тексты и понимаю: все, о чем он говорит, живет вокруг, я это тоже вижу, но стараюсь закрыться. Может быть, я не вижу там автора до конца, но он и не хочет там присутствовать — в привычной форме. Он присутствует как бог или мудрый родитель — без подсказок. В «Бытии N два», кажется, есть фраза «В этом есть что-то еще». Это заставляет мою фантазию работать. Он открыл свой театр, другой.
Как и Крымов?
Да. Нас же долго даже театром не называли. Не принято было дарить цветы. Фотографии артистов в фойе до сих пор не висят. У нас в Лаборатории не было своих гримерок, только под конец нам выделили для мальчиков одну на всех и одну — для девочек. Для меня это было странно, когда я пришла. В актерской профессии гримерка — это же святая святых. Там актер может сидеть перед зеркалом, может остаться один, поиграть, попробовать. Я не помню, чтобы мы с Крымовым садились и разбирали монолог. Я всегда дома сама разбирала. Потом показывала, импровизировала, он уже что-то корректировал. Нас так и называли — художнический театр. Но когда начали появляться более актерские работы, включая «Позднюю любовь», нас увидели как театр. И сам Дмитрий Анатольевич больше начал интересоваться вживлением актеров в свои миры.
Расскажите о сериалах. Это ведь противоположность театра по степени проработанности ролей.
Там часто интересные актеры снимаются. В «Рая знает» снимались Граня Стеклова, Ирина Пегова. И я туда пошла, потому что мне было интересно посмотреть, как они работают, побыть с ними. Кино — это совершенно другое. Редко тебе позволяют делать совсем интересный характер. Это могут себе позволить звезды первой величины. Их берут на такие роли, где можно перевоплотиться. А я не настолько медийная. Да и киношники не всегда в театр ходят, не знают способностей актеров.
Вы сами не хотели что-то поставить?
Я делала много отрывков в ГИТИСе. Например, «Три сестры» с художницей Полиной Гришиной. Она придумала чувственное пространство: железный холодный пол, красивые плиты резные. Сидят мужчины в шинелях, и по ним ступают три босые девочки. А потом военные уходят, а девочки остаются и шагают уже по полу. А насчет поставить — может быть, я когда-то решусь.
Что это будет? Классика?
Конечно.
Интервью: Полина Сурнина
Фото: Ксения Угольникова
©️ R Flight magazine // июнь 2019