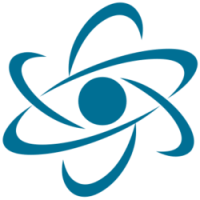ФИЛОСОФИЯ | НАУКА | КУЛЬТУРА
14 апреля 2019
Природа страха по Ницше
П.С. Гуревич
Ницше о человеческих страстях
Ницше о культе рассудочности. Идейное наследие Фридриха Ницше исследовано к дню нынешнему весьма обстоятельно. И все же, я полагаю, есть основания утверждать, что системе его взглядов на человеческие страсти и эмоции в философской литературе уделялось недостаточно внимания. Между тем именно этой системой он, пожалуй, наиболее радикальным образом отмежевался от классической традиции. Ницше задался вопросом: в чём заключается «страшная сила» общепринятых в его время общих суждений о «человеке»? Почему «…все эти неизвестные самим себе люди верят в бескровную абстракцию “человека”, то есть в фикцию; а любое изменение этой абстракции, производимое суждениями немногих обладающих силой (к примеру, правителей и философов), воздействует на огромное большинство в сверхобычной и выходящей за всякие рамки степени – и все это происходит по той причине, что каждый отдельный представитель этого большинства не может противопоставить всеобщей бесцветной фикции никакого реального, доступного и ясного ему ego, а тем самым и развеять названную фикцию» [Ницше 2014б, 84–85].
Отвлечённое представление о человеке Ницше связывал с игнорированием эмоциональной жизни людей, которая репрессируется рассудочной философской традицией. Было бы преувеличением сказать, что в наследии немецкого философа можно обнаружить логически выверенное, стройное учение о человеческих чувствах. Общая позиция философа складывается из разрозненных суждений, высказанных, как правило, по частному поводу. При этом обнаруживается множество противоречий, непоследовательных умозаключений. Но во всех его суждениях можно различить направленность против диктата просветительской рационалистической традиции, культивирующей разум и третирующей мир человеческих переживаний.
В течение ряда веков страсть в европейском сознании толковалась как безоговорочно негативный феномен. Предполагалось, что именно чувство при всем его разнообразии мешает ясной и продуктивной работе ума. Разумеется, это было ошибкой, однако отчасти оправданной. Изучение интеллекта показало, что литургически стройной активности мысли вредят непрошенные, человеческие страсти. Начиная с Нового времени, мудрецы ведут яростную войну против эмоций, которые, по их мнению, рождают заблуждение, пороки, иллюзии. Человеческая природа и разумность оказываются синонимами. Тот, кто становится жертвой страсти, утрачивает рассудочность.
Со времён Платона было известно, что эмоции в немалой степени уравнивают людей и животных. Вот почему античный философ, рисуя структуру человеческой психики, ставит эмоции в самое её подножье. И Ницше не забывает о низложении чувств Платоном. «О чём говорит тот факт, что наша культура не просто терпима в отношении слёз, жалоб, упрёков, жестов ярости или уничижения – а что она одобряет их и причисляет к благородным неизбежностям? – В то время как дух античной философии взирал на них с презрением, не признавая никакой необходимости в них? Вспомним хотя бы, как Платон – отнюдь не самый бесчеловечный из философов – рассуждает о Филоктете как сценическом персонаже. Так, может быть, нашей современной культуре не хватает “философии”? Может быть, с точки зрения древних философов все мы вместе взятые – не более чем “плебс”?» [Ницше 2014б, 132].
Платоновский идеал человека несовместим с культом естественных выражений чувств. Но сам Ницше судит о множестве человеческих переживаний: о нежности и фанатизме, любви и пафосности, гордыне и смирении, страдании и жестокости, ненависти и мести, трепете и скорби. Он стремится подчеркнуть самостоятельность эмоционального мира людей, его автономность по отношению к рациональности. Хотя делает это далеко не всегда последовательно.
Ф. Ницше в этом отношении выступает как полемист, например, по отношению к Ф. Бэкону. Бэкон оценивал эротическую страсть как безумие. Он предупреждал, что это переживание неизбежно ведет к эксцессам. Оно идёт наперекор природе истинной ценности вещей. Тот, кто ценит любовную привязанность, поясняет Ф. Бэкон, теряет и богатство, и мудрость. Эротическая страсть достигает высшей точки во времена, когда, по его словам, люди оказываются слабыми, когда наступает либо великое процветание, либо великое бедствие. Тогда люди забывают, что страсть – дитя безрассудства. Так что лучше всего не допускать любви, удерживать её в подобающих оковах. Любовь, полагал Бэкон, занимает весьма незначительное место в истории человечества. Муж зрелый, озабоченный государственными делами, или мудрец, постигающий таинства мира, вряд ли впадут в любовное исступление.
И в XVII в. страсти подверглись подробнейшему изучению. Каким образом можно их взять под контроль? Философы не теряют надежды найти способ преображения разрушительных страстей и направить их в созидательное русло. Паскаль, восхищаясь величием человека, отмечает, что тот смог вывести из похоти восхитительное устройство – он имеет в виду социальную организацию, которую Паскаль и характеризует как «такой замечательный порядок» [Паскаль 1995, 103]. Мысль о том, что общество, в основе которого лежит себялюбие, а не милосердие, демонстрирует большую жизнеспособность, хотя и остаётся по-прежнему греховным, присутствует у многих янсенистов, современников Паскаля. Установка на рацио, естественно, привела к дискредитации чувств, в которых всегда таятся разрушительные опасности. И тем не менее в европейском сознании все более укреплялось убеждение, что разум не может подавить страсти. В работе «Антропология с прагматической точки зрения» Кант приходит к убеждению, что сама человеческая природа, по неизвестным нам причинам, время от времени ослепляет разум. Однако антропологический идеал Просвещения – рассудочный христианский аскет, сумевший втиснуть эмоции в русло благоразумия
Разумеется, засилье рассудочности осознавалось многими мыслителями. О значении эмоций в жизни людей писал Ж.-Ж. Руссо. Ницше даже иронизирует по этому поводу, высмеивая готовность Руссо раскрыть объятья каждому человеку. «Со времён Руссо, – пишет Ницше, – восхвалялась непосредственность чувства, способность броситься кому-нибудь на грудь, извергнуть свой гнев, будто слюну, и т.д. Странно, что все великие мудрецы морали требовали ровно обратного! – Сдержанности чувств – и достоинства в поведении человека нравственного. Есть прелестные, совершенные души, которым это, вероятно, подобает, потому что в них нет ничего чрезмерного... Даже добрые и внушающие уважение чувства, выраженные неумеренно и прямолинейно, вызывают к себе отвращение: наверное, каждому хоть раз в жизни приходилось посылать ко всем чертям сострадание, не умеющее держать себя в рамках» [Ницше 2013, 121].
Собственная позиция Ницше здесь выражена туманно. То, что великие мудрецы призывали сдерживать свои эмоции, философ сопровождает оценкой «странно». Вполне ощутима ирония и во фразе: «Сдерживать чувство – в этом всё достоинство нравственного человека!» Но мысль в целом сводится, судя по всему, к известной фразе из «Евгения Онегина»: «Учитесь властвовать собою…» Поддерживая законность естественных эмоций, Ницше вроде бы хочет сказать: «…не всякий вас, как я поймёт…». Безмерную чувствительность он явно осуждает. В этой связи нельзя не напомнить, что в европейской культуре сквозь пелену рассудочности прорвался сентиментализм. Не случайно незатейливая, но назидательно-чувствительная повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза» не только завоевала сердца читателей, но и вызвала к жизни целое литературное направление [Спирова 2016]. Да ведь и Пушкин оценил слёзы как жизненную драгоценность. Он, собственно говоря, и перечислил слагаемые душевной жизни человека, которые рождают упоение: «и божество, и вдохновенье, и жизнь, и слёзы, и любовь».
Однако, так или иначе, усилиями психиатров в пору Ницше страсть оценивалась как пограничное психиатрическое состояние. В конце XIX в. значительную популярность имела книга Франца Нордау «Вырождение». В этой работе он ставил психиатрический диагноз выдающимся писателям – Ф. Ницше, Л. Толстому, О. Уайльду и другим властителям дум своего времени. Нордау не столько давал зачастую занимательную и парадоксальную трактовку творчеству этих мастеров культуры, сколько обосновывал свои сомнения в их психическом здоровье. Более того, Нордау пришёл к выводу, что речь может идти не только о психопатических расстройствах ряда виднейших мыслителей и писателей. Он полагал, что их творчество свидетельствует об общем процессе вырождения, идущем в Европе. Нордау демонстрирует, что картина клинического вырождения приложима к разным выдающимся писателям, композиторам, художникам – Полю Верлену, Стефану Малларме, Генрику Ибсену, Рихарду Вагнеру, Эмилю Золя, Льву Толстому, Анатолю Франсу. Он предлагает клинические подробности и обстоятельные психологические зарисовки. Кстати, его учитель Ч. Ломброзо тоже относил Л.Н. Толстого к разряду безумцев с дурной наследственностью, но после встречи с ним публично признал свою ошибку. Сам Нордау полагал нормой последовательное, логическое, беспристрастное рассуждение. Нордау исследует личности выдающихся, великих, неординарных мыслителей, художников, писателей и поэтов, но в качестве нормы предлагает нечто усреднённое.
Реабилитация страсти. Ницше утверждал, что новые мысли, новые взгляды и цели в истории возникали не по рассудочному расчёту, а в результате захваченности страстью, которая окружающими зачастую воспринималась как сумасшествие. Он писал: «Понятно ли вам, почему именно безумие? Что-то в голосе и повадках, столь же жуткое и не дававшееся рассудку, как демонические ужимки погоды и моря, и потому достойное той же робости и внимания? Что-то столь явственно обнаруживавшее признаки полнейшей недобровольности, подобное судорогам и пене изо рта у эпилептиков, и потому, казалось, представлявшее безумцев масками и рупорами божества?» [Ницше 2014б, 25–26].
По мнению Ф. Ницше, даже животные слушают голоса собственной страсти. Они не хотят, чтобы их обманули. «Животное оценивает движения своих врагов и друзей, вдоль и поперёк изучает их особенности, согласуя с ними своё поведение: при виде представителей определённого вида оно никогда не будет проявлять враждебности, а при появлении некоторых видов животных будет показывать стремление к миру и согласию» [Ницше 2014б, 35]. Страсть не унижает и не оскорбляет и человека. Напротив, она служит меткой «сверхчеловеческого». «Все институты, снабжающие страсть верой в её длительность и наделяющие её долгосрочной ответственностью вопреки природе страсти, подняли её на уровень выше: и тот, кого теперь охватывает такая страсть, видит себя не униженным или поставленным ею под угрозу, как прежде, а возвышенным над собою или себе подобными. Вспомним об институтах и обычаях, превративших сиюминутное пылкое чувство преданности в “верность до гроба”, порывы гнева – в неутолимую месть, отчаяние – в вечную скорбь, раз вырвавшиеся слова – в обязательство на всю жизнь. И всякий раз такое превращение в изобилии порождало лицемерие и ложь: но вместе с тем всякий раз – и именно этою ценой – какое-то новое, сверхчеловеческое, возвышающее человека представление» [Ницше 2014б, 35–36].
Как поступают люди, охваченные страстью? Ницше полагает, что некоторые люди сразу борются против неё и попадают под власть другого соблазна. Другие, ожидая, что страсть принесёт ещё большее удовлетворение, легко обманываются. Тогда они начинают мстить страстям. Наконец, есть и такие, которые чувствуя себя слабыми, робкими, готовы сразу капитулировать. Они поступают вопреки зову страсти. Но здесь Ницше успевает дать собственную оценку. Он саркастически замечает: «И всё это называется величием духа!»
Однако, по мнению Ницше, человек не должен быть заложником страсти. Он размышляет о способах преодоления страсти (см.: [Ницше 2014б, 88–89]). Сами по себе эти рассуждения Ницше банальны и шатки. Он постоянно опирается на рассудочные доводы. Он ставит страсть под контроль нравственных норм. Нет слов, моральные соображения оказывают воздействие на табуирование страстей. Однако вор, взвешивая выгоду, далеко не всегда считается с общественным мнением. «Сюда же относятся случаи, когда гордость человека восстаёт (как, к примеру, у лорда Байрона и Наполеона), восприняв как оскорбление победу отдельного аффекта над самообладанием и разумной упорядоченностью всей своей жизни: тогда отсюда рождается привычка и охота тиранить влечение и словно заставлять его скрежетать зубами» [Ницше 2014б, 89]. Но в истории мы находим многочисленные примеры, когда состояние аффекта побеждает другие, более значимые чувства.
Ницше рассматривает также метод преодоления страсти. Жертва страсти решительно направляет свои усилия в сторону другого соблазна. Она буквально покровительствует новой страсти. Таким образом, она не позволяет искушению оказаться тираном. «И наконец… тот, кто сможет выдержать и сочтёт разумным ослабить и подавить всю свою телесную и душевную организацию, тот, конечно, тоже добьётся ослабления отдельного сильного влечения…» [Ницше 2014б, 89].
Впрочем, проведя инвентаризацию страстей, Ницше и сам признаёт, что ни один метод не может побороть упорство страсти. На самом деле, рассуждает философ, вовсе не интеллект определяет направленность чувств. Он сам оказывается орудием других страстей, среди которых страх позора или погружение в любовь становится захватывающим. Когда мы возносим жалобы на конкретную страсть, на самом деле получается, что одна страсть жалуется на другую. Это, по сути дела, чисто психоаналитическое утверждение, некое предвестие фрейдовской мысли. Особую боль причиняет та страсть, которая сильнее. Она и вступает в борьбу с другими вожделениями. Интеллект всё же принимает участие в этом состязании.
Диапазон человеческих переживаний. Ницше обратил внимание на многообразие человеческих чувств, на их диапазон. Амплитуда эмоциональных состояний человека огромна – от пафоса до медитативной отрешённости, от эмоционального потрясения до бесчувствия, от фанатизма до бесстрастия. Чувства человека, согласно Ницше, открывают мир горьких и страшных мучений. Они нередко сродни безумию. «Не всякий осмелится заглянуть в дебри жесточайших и совершенно излишних душевных конфликтов, в которых, вероятно, изнывали как раз самые способные люди всех времён! Не всякий отважится услышать мольбы отшельников и помешанных: “Боги небесные, ниспошлите же мне безумие! Безумие, дабы я наконец поверил в себя! Ниспошлите горячку и судороги, ослепительные молнии и бездны мрака, ужасните меня стужей и зноем, каких ещё не знал никто из смертных, и пусть вокруг меня поднимется буря, замаячат призраки, пусть я буду выть и визжать, катаясь по земле, как животное, – лишь бы я нашёл в себе веру! Меня пожирает сомнение, я умертвил закон, и закон пугает меня, словно труп – живого: если я не выше закона, то я самая отверженная из всех тварей. Этот новый дух, что есть во мне, – откуда он, если не от вас? Докажите же мне, что я – ваш; а докажет это только безумие”. И это страстное томление слишком часто попадало точно в цель…» [Ницше 2014б, 27].
В мировой психологии укоренилось представление о различении «хороших» и «плохих» чувств. Ф. Ницше считал это различение исторически условным. Иначе говоря, оценка той или иной эмоции зависит от культурного контекста. В частности, он отмечал, что утончённая жестокость может выступать в роли добродетели [Ницше 2014б, 28]. На этой мысли Ницше настаивает постоянно. Чаще всего он апеллирует к античной культуре. Так, он полагает, что древние греки понимали зависть иначе, чем мы. «Гесиод относит его к проявлениям доброй, благодетельной Эриды, а ведь богам не следовало приписывать ничего предосудительного, в том числе зависти: понятно, что это было возможно при таком порядке вещей, душою которого выступал раздор; раздор же оказался квалифицирован и оценён как добро. Точно так же греки отличались от нас и в оценке надежды: её считали слепой и коварной; Гесиод выразительно обрисовал её в притче, сказав нечто столь поразительное, что ни один современный интерпретатор сказанного так и не понял – ведь оно претит нынешнему складу ума, приученному христианством к вере в то, что надежда – это добродетель» [Ницше 2014б, 42–43].
То, что античные боги не были лишены зависти, ещё не означает, что в античной культуре зависть имела только некий поощрительный статус. Древние греки понимали пагубность зависти и в своих коллективных действиях стремились минимизировать её негативное воздействие на людей. Участники состязаний славились не только тем, что достигали рекордов. Агон предполагал, что победитель должен оказать содействие тем, кто не добился окончательной победы. Дух соперничества не исключал помощи и солидарности [Щербина 2006].
Иначе, чем мы, по мнению Ф. Ницше, воспринимали иудеи такое эмоциональное состояние, как гнев: «…они канонизировали его: для этого они вознесли в своём сознании мрачное величие, связанное с проявлявшим гнев человеком, на такую высоту, которой европейцы не могут себе и представить; они создали Иегову с его священным гневом по образу своих пророков с их священным же гневом» [Ницше 2014б, 43]. Ницше тоже сетовал на то, что возвышение чувств, под которым он понимал более сложное эмоциональное образование, рождает подозрение, словно они связаны с безумием и бессмыслицей. Такие эмоциональные состояния с трудом поддаются очищению. Оно происходит предельно медленно. При этом Ницше пытался «оправдать» гнев, не причислять его к негативным эмоциям. В церковном сознании тоже отмечается праведный гнев как мудрая сила. Не всегда гнев оказывается отрицательной эмоцией, поскольку выполняет порой благородную миссию: борьбы против греха, против несправедливости.
Таким образом, Ницше ставит проблему историко-культурного анализа чувств. Они вовсе не являются неоспоримой антропологической данностью. В одной культуре, скажем, в античной, гнев осуждается как страсть, предлагается психологическая техника, позволяющая контролировать и обуздывать эту эмоцию. В другой культуре, например, иудейской, согласно Ницше, гнев оказывается благородной и пророческой страстью. История даёт внушительные примеры благородного гнева, а искусство воплощает эту страсть в многочисленных образах.
В то же время Ницше склонен считать, что такого рода оценки не всегда точны, поскольку наши влечения зависят от моральных суждений. Если, скажем, в определённой культуре в силу нравственных повелений какое-то проявление эмоций осуждается, то, естественно, такое влечение окажется для многих негативным. «Такое-то влечение превращается в чувство мучительной робости под гнётом осуждения, вынесенного ему традицией, или в приятное чувство смирения – если традиция, какова, скажем, христианская, отметила его для себя и одобрила. Иными словами, на него взваливается чистая или нечистая совесть! Само по себе оно, как и любое другое влечение, не обладает ни таким, ни моральным характером и репутацией вообще и даже не сопровождается тем или иным ощущением удовольствия или страдания: но всё это становится его второю природой, лишь когда оно начинает ассоциироваться с влечениями, уже окрещёнными именем хороших либо плохих, или же осознаётся как качество людей, уже морально квалифицированных и оценённых народом» [Ницше 2014б, 42].
Парадоксальность эмоциональных состояний. Безразличие, понятное дело, не отнесёшь к половодью чувств. Но разве наша эмоциональная жизнь имеет столь узкий ресурс? Психологи утверждают, что спектр наших эмоциональных переживаний гораздо богаче. Другие состояния рождаются путём скрещивания, наложения одной базовой эмоции на другую. Допустим, ненависть – это растворение злости и страха. Американский психолог К. Изард предложил развёрнутый список фундаментальных эмоций. Так, он выделил страдание как отрицательное эмоциональное состояние, связанное с полученными сведениями о возможности или невозможности удовлетворения важнейших жизненных потребностей. Однако смысл страдания раскрыт в данном случае не полностью. Существует, согласно Ф. Ницше, мораль добровольного страдания, которая не позволяет назвать эту эмоцию только отрицательной. Страдание, размышляет Ницше, для многих открывает более глубокий мир правды. Немецкий философ часто анализировал страдание.
Разумеется, такое отношение к страданию характерно не только для Ф. Ницше. В романах Леопольда фон Захер-Мазоха «Венера в мехах», «Демонические женщины» раскрыта драматургия наслаждения и мучений. С потрясающей психологической силой писатель показывает, как мужчины слабеют под гнётом собственной страсти и становятся покорными рабами женщин. Но этот добровольный плен не тяготит героев. Напротив, они испытывают наслаждение от тех нравственных и физических мучений, которым подвергают их жестокие возлюбленные. Страдание, вызванное невозможностью удовлетворения страсти, оказывается не столько отрицательной, сколько положительной эмоцией.
Но здесь обнаруживается ещё один парадокс. Страдальцы тоже получают наслаждение. О страдании в современной философии написано достаточно много. Еще Платон, Аристотель, Эпикур. Сенека пытались осмыслить сущность и назначение этого человеческого переживания. Его смысл усматривали в духовном очищении – катарсисе. Ницше придаёт этому состоянию прямой философско-антропологический смысл. В каждом человеке, по мнению Ницше, живут тварь и творец, в каждом есть глина, грязь, бессмыслица, хаос. И человек должен страдать, чтобы из твари стать творцом, чтобы «обжечь» себя и добиться «твёрдости молота».
С понятием страдания связан еще один смысловой пласт. Позволю себе процитировать наши с Э.М. Спировой рассуждения. «Со страданием связано понятие сострадания, которое является основой христианской морали – именно благодаря состраданию к окружающим людям человек очищается, преодолевает собственный животный эгоизм. Сострадание – это и опыт непосредственного мистического проникновения в чужое Я. Однако, с точки зрения Ницше, сострадание умаляет человеческое достоинство, принижает человека. Человек, пытающийся выковать из себя человека, достоин не сострадания, а любви. Сострадание, по Ницше, – черта рабской морали». [Гуревич, Спирова 2016, 165]. При этом он отчетливо осознавал, что такая интерпретация недостаточна, поскольку сострадание всегда сильнее страдания. «К примеру, когда кто-то из наших друзей совершает что-то постыдное, мы переживаем это куда сильнее, чем когда совершаем это сами. Ведь, во-первых, мы верим в чистоту его души больше, чем он сам; во-вторых, наша любовь к нему – наверное, как раз из-за этой веры – сильнее, нежели его любовь к себе. Хотя его эгоизм и впрямь страдает при этом больше, чем наш собственный, поскольку ему приходится нести более тяжкий груз скверных последствий своего проступка, но неэгоистическое начало в нас – это слово не следует понимать в строгом смысле, оно только усиливает возможность донести суть дела – всё-таки страдает от его провинности сильнее, чем неэгоистическое начало в нём самом» [Ницше 2011, 61].
Ницше понимал, что страдания идут рука об руку с ипохондрией, которая овладевает «…теми одинокими, истово верующими людьми, у которых всегда перед глазами стоят картины страстей и умирания Христа» [Ницше 2011, 61]. И под влиянием ипохондрии страдание множится. «Значит, жажда возбуждать сострадание, – пишет Ницше, – это жажда ощущения собственной ценности, и притом за счёт окружающих; человек проявляет в ней всю беззастенчивость своего драгоценного “я” – но отнюдь не свою “глупость”, как думает Ларошфуко» [Ницше 2011, 63].
Ницше обладал особой интеллектуальной интуицией, потому он смог увидеть, что за страданием скрываются столь разные экзистенциальные переживания, как озлобленность, жестокость. «В таких бесчисленных, но очень мелких дозах, в каких проявляется злоба, она оказывается мощным стимулятором жизни…» [Ницше 2011, 64].
О злобе. Полагаю, что Ницше можно назвать основателем «мизантропологии». Он не идеализирует человека «Мизантропия, – писал Ницше, – есть следствие слишком ненасытной любви к людям и “людоедства” – но кто же просил тебя глотать людей, как устриц, мой принц Гамлет?» [Ницше 2014а, 457].
Как мы уже писали: «В основе мизантропологии Ницше лежит не ненависть к человеку, а презрение к нему. По его мнению, ненависть оплачивается слишком дорого. Немецкий философ приближается к проблеме двойственности (амбивалентности) человеческих чувств. Любой идеал, согласно Ф. Ницше, – школа любви и ненависти, а также почтения и презрения. Задолго до Фрейда немецкий философ пытался показать сплетение противоречивых чувств: в каждой любви таится ненависть, в ненависти прячется любовь. Вот почему Ницше заявляет, что он не мизантроп… Подлинным мизантропом он считал Тимона Афинского (V в. до н. э.). Этот человек разочаровался в друзьях и согражданах и поэтому стал отшельником. Тимон упоминается в сочинениях Лукиана, на основе которых были написаны трагедия Шекспира “Тимон Афинский” и “Человеконенавистник” Шиллера» [Гуревич, Спирова 2016, 166–167]. «Чтобы ненавидеть так, как прежде ненавидели человека, по-тимоновски, целиком, без всяких скидок, от всего сердца, изо всей любви ненависти, – для этого следовало бы отказаться от презрения: а какой утонченной радостью, каким терпением, каким даже добродушием обязаны мы именно своему презрению!» [Ницше 2014а, 577]. Ницше указывает на отличия ненависти (в которой есть и страх, и уважение) и презрения. Он полагает, что «…от всякого общения с людьми нас слегка трясёт; что при всей нашей кротости, терпеливости, человечности, учтивости мы не в силах уговорить собственный нос отказаться от своего предубеждения к близко стоящему человеку; что мы тем больше любим природу, чем меньше в ней человеческого, и искусство, если оно есть бегство художника от человека, или насмешка художника над человеком, или насмешка художника над самим собой…» [Ницше 2014а, 577–578].
На мой взгляд, феномен злобы, как ее понимал Ницше, неразрывно связано с понятиями «ресентимента» и «образа врага». «Уже в средние века “образ врага” был поставлен на поток. Он лепился истово, с использованием всех вытесненных влечений и враждебных импульсов. Ведь вождь протестантизма Мартин Лютер, по заключению Эриха Фромма, был авторитарной личностью. Чем обусловлена его безмерная ненависть к католицизму? Раздвоенностью натуры. Он ненавидел других, особенно “чернь”, презирал себя, отвергал жизнь, и из этой ненависти выросло страстное и отчаянное стремление быть любимым. Вся его жизнь прошла в непрерывных сомнениях, во внутренней изоляции. На такой личной почве он и смог стать глашатаем тех социальных сил, которые находились в аналогичном психологическом состоянии, – несли сокрушительный заряд неприязни» [Гуревич 2001, 14].
Примечательно, что, с точки зрения Ницше, «герои» и «чернь» страдают по-разному. Для него было очевидно, что «…пуще всего страдают они (величественные натуры. – П.Г.) от неблагородных, мелочных вспышек, выводящих их из себя в какие-то злые мгновения, короче, от сомнений в собственном величии – и вовсе не от жертв и мученичества, которых требует от них их задача. Пока Прометей сострадает людям и жертвует собою ради них, он счастлив и велик в себе самом; но стоит ему почувствовать зависть к Зевсу и к почестям, оказываемым последнему смертными, как он начинает страдать!» [Ницше 2014а, 474]. Только благодаря отваге героев сохраняется человечество (причем страдание в этом контексте тоже приобретает героическую окраску). Но и герои остаются несчастными и страдают не меньше низших слоев общества. «В большинстве благодеяний, – пишет философ, – оказываемых несчастным, чем-то возмутительным выглядит то интеллектуальное легкомыслие, с которым сострадающий корчит из себя судьбу; ему неизвестно ровным счётом ничего о внутренних последствиях и коллизиях, которые и называются моим или твоим несчастьем!» [Ницше 2014а, 519–520]. Это означает, что для людей страдание имеет общеобязательный характер (только через тернии человек движется к звездам).
Страх и скорбь. Ницше показал, что человек постоянно объят чувством страха. Столкнувшись с жестокостью в древней общине, люди полагали, что боги радуются и наслаждаются жестокими сценами, которые возникают по произволу людей. Так, члены общины впадали в страх и сомнение. Всякого рода неудачи лишь укрепляли это состояние: видя наше несчастье, боги, возможно, отнесутся к нам милостиво. Вот почему страдание зачастую оказывалось добровольным. Жестокое самобичевание оценивалось как должное и продуктивное. «Чем дальше именно их дух заходил по новым путям, – пишет Ницше, – а значит, терпел муки совести и страх, тем более люто ярились они на свою плоть, свои влечения и своё здоровье, – словно чтобы предложить божеству некую компенсацию за наслаждение, на тот случай, если оно раздражено небрежением и забвением обычаев и новыми ориентирами» [Ницше 2014б, 29].
Ницше следует за С. Кьеркегором в различении страха и трепета. Различие этих состояний позже найдёт освещение в работах К. Хорни, М. Хайдеггера и Ж.-П. Сартра. Касаясь темы экзистенциального страха, Сартр приводит пример с путником, который идёт по тропинке над бездной. Причинный страх здесь объясним: одно неосторожное движение и можно погибнуть. Но есть ещё одна разновидность страха – экзистенциальная: путник прокручивает в своём сознании смертельный полёт в пропасть.
Оскудение чувств. По мнению Ф. Ницше, многие чувства, которые когда-то питали возвышенность человеческого духа, померкли, утратили свою ценность. Философ писал о неизбежности смертной скорби, считая это чувство неотъемлемым для человека. Люди всех времён сталкиваются со смертью, обездоленностью, бедствиями и лишениями. И всё же едва ли не в каждой культуре складывается уникальное отношение к скорби. Она может восприниматься как архаическое эмоциональное состояние, как дань ритуальной традиции, психиатрический симптом или как глубинное выражение духа. За последние века скорбь утратила сакральный смысл. Выявилась психологическая усталость от страданий, которые выпали на долю человечества. Скорбь стала замещаться показной меланхолией, горе – бесстрастным сочувствием, отчаяние – сублимационной тоской по радостям жизни.
Между тем скорбь нужна, чтобы человек сохранил в себе возвышенный образ мысли. Без неудач и страданий нельзя измерить глубину человеческого бытия. Печаль и скорбь могут возникнуть вследствие утраты идеалов или свободы, вследствие утраты дружеских отношений или значимых объектов. В философской литературе нашего столетия появилось понятие «работа скорби». Трагические события минувшего века, потрясшие человечество, обострили онтологический спор о смысле бытия. Тревогу вызывает то, например, что оплакивание зачастую воспринимается как архаическое преувеличение [Подорога 2013]. Ведь скорбь – вечная тема жизни и искусства. Её забвение – угроза человечеству, полагал Ницше.


Время и архаический человек
Мирча Элиаде
Как коллективные, так и индивидуальные, как циклические, так и спорадические, все обряды возрождения всегда содержат в своей структуре и своем значении элемент возрождения посредством воспроизведения архетипического деяния, преимущественно космогонического действа. Мы же должны подчеркнуть, что эти архаические системы, отменяя конкретное время, пытаются таким образом избавиться от истории. Отказ хранить память о прошлом, даже о самом недавнем, кажется нам признаком особого устройства человеческого менталитета. Это, если говорить кратко, отказ архаического человека воспринимать свое бытие как историческое, отказ наделить значимостью «память» и, как следствие, нерегулярные события (то есть события, не имеющие архетипической модели), которые, в сущности, и составляют конкретное течение времени. В конечном счете мы полагаем, что глубинный смысл всех этих обрядов и установок состоит в стремлении обесценить время. Доведя эти обычаи и варианты установочного поведения, о которых мы упомянули выше, до их логических пределов, можно прийти к следующему заключению: если времени не придают никакого значения, стало быть, оно не существует; более того, как только время начинают ощущать (из-за «прегрешений» человека, то есть тех случаев, когда человек удаляется от архетипа и попадает в течение времени), его беспрепятственно аннулируют. В сущности, если представить себе подлинную перспективу жизни архаического человека (жизнь, сведенную к повторению архетипических деяний, то есть к категориям*, а не к событиям, к беспрестанному воспроизведению одних и тех же первомифов и т. д.), то хотя она и протекает во времени, человек тем не менее не ощущает его бремени, не замечает необратимости событий, иными словами, совершенно не отдает себе отчета в том, что характеризует и определяет осознание времени. Подобно мистику или же человеку глубоко религиозному, первобытный человек всегда живет в настоящем. (Именно в этом смысле можно сказать, что религиозный человек является человеком «примитивным»; он повторяет деяния некоего другого, и благодаря этому повторению постоянно живет во вневременном настоящем.)
«Миф о вечном возвращении»


13 апреля 2019
Как отказ от мысли и свободы стал нормой
Испанский философ Хосе Ортега-и-Гассет много чего написал хорошего. В 1930 выходит его книга «Восстание масс». Здесь важная для нас тема критики культуры: нужно понять, как все плохо. Практически все разговоры о «массовой культуре» (уже общеупотребительное выражение) восходят к этой работе Ортеги. Ни одно из исследований массовой культуры не обходится без упоминания Ортеги. Но часто дело ограничивается именно упоминанием. Он был первым и в некоторых отношениях единственным, кто задумался о подлинной сущности этого нового для европейской цивилизации феномена, который назвал «человек-масса». Дал очень основательную и очень развернутую формулировку того, что представляет собой это явление, чем опасно для европейской культуры.
«Соединение либеральной демократии… и технического прогресса к 20 веку обеспечило высокий уровень европейской жизни. В этих условиях жизнь отдельного человека, прежде всего представителя среднего класса, перестала быть непрерывным преодолением трудностей, стала комфортной, защищенной, а во многом и гарантированной. В итоге резко увеличилось население Европы, на арену истории вышли массы людей, которых научили пользоваться современной техникой, но не приобщили к пониманию общественных задач и принципов цивилизации.
Для Ортеги любое общество делится на две части: «избранное меньшинство» – те, кто ориентирует свою жизнь на служение высоким этическим ценностям, кого отличают требовательность, взыскательность к себе, постоянное самосовершенствование, и руководимая этим меньшинством масса. Однако в новых условиях возникает особый представитель массы, которого Ортега называет «человеком-массой». Усвоив, как пользоваться последними новинками техники и считая технический прогресс гарантированным, этот массовый человек не хочет знать принципов, на которых строится цивилизация. У «человека-массы» редкостная неблагодарность ко всему, что сделало возможным его существование. Его отличает чувство вседозволенности и признание лишь собственного авторитета, самоудовлетворенность и непокорность. В него заложена некоторая сумма идей, в результате чего у него есть «мнения». Он этим удовлетворен, доволен собой и не намерен считаться ни с кем, кроме себя. Наличие «мнения» у «человека-массы» для Ортеги не служит признаком культуры, так как оно не опирается ни на ее принципы, ни на дисциплину интеллекта.
Ортега не дает определения массового человека, но неоднократно повторяет, что это признак не социальный, не классовый, а «типологический». Это – «новый тип человека, характерный для любого общественного класса». Однако наиболее типичного его представителя Ортега находит среди технических специалистов, ученых-экспериментаторов, этих «аристократов времен буржуазии». Развитие науки требует эксперимента и все большей специализации, в результате чего технический специалист теряет способность к интерпретации бытия как целого. Поскольку в экспериментальной науке много механических операций, она делается руками людей заурядных, знающих одну область своей науки. Это – «невежественный ученый», который, однако, по отношению к тому, чего он не знает, будет вести себя с уверенностью человека знающего, диктовать свое мнение в областях, где он не является специалистом. Образ такого интеллектуала для Ортеги и есть символ торжествующего «человека-массы»
Важный момент: наиболее радикальным и опасным, показательным типом человека-массы является очень образованный человек, но невежественный, потому что утратил способность восприятия целого, не знает оснований культуры и цивилизации, не уважает их и не считает нужным уважать, полагает, что имеющихся у него сведений достаточно, чтобы иметь обоснованное мнение обо всем на свете.
Это меняет все представление о знании. Получается, оно сводится к минимальному количеству информации и приемов ее обработки. Человек на деле не только не знает, но вообще не думает. Знание перестает быть связано с мышлением, с чтением. С искусством чтения. Думать – форма жизни, форма вовлеченности в жизнь. Культурой следует называть опыт мысли, чтения. Опыт, в который человек погружен. Неотъемлемая часть жизни. Когда этого нет, тогда нет никакой культуры. Ее не может быть у человека-массы – не важно, человека совершенно необразованного или блестящего специалиста узкого профиля. Умение, искусство, опыт чтения. Опыт мышления, постоянный внутренний диалог со всем пространством, содержимым мировой/европейской цивилизации. Отсутствие этого – признак отсутствия культуры.
Пафос Ортеги – непримиримая враждебность к этому явлению. Страстность, с которой написана работа. Нет привязки понятия «человек-масса» к тому, что впоследствии станут называть «массовой культурой». Явной привязки нет и в тексте Ортеги. Но в неявном виде можно сказать, что текст кричит: «массовая культура» – оксюморон.
Эти вещи – «масса» и культура – исключают друг друга.
Практически в начале работы Ортега говорит, что понятие массы связано с понятием толпы. Толпа – понятие количественное и визуальное. Переведенное на язык социологии, оно дает массу. Одно значение слова обиходное, другое в составе выражения «массовый человек» – диагноз эпохи, культуры. Новое понятие, которое тогда еще только предстояло осмыслить человечеству. Если многократно подчеркивается, что человек-масса – тип, представителем которого может явиться человек любого класса, оказывается, что «тип» – слово не самое удачное. Особенно потому что Ортега говорит о немыслимом разрастании этого типа. Вместо термина «тип» можно предложить слово «состояние». Психологическое, духовное, телесное. Оно видно в так называемом стадном чувстве. Человек может войти в это состояние. Не у всех получается выйти. Состояние, которое может в той или иной степени затронуть каждого.
Любой человек в той или иной степени, даже элита может впасть в состояние массового человека. Человек современной эпохи обречен на то, чтобы в это состояние впадать. Это не поветрие, не что-то временное. Человек-масса – некультурный человек. Тот, кто не испытывает уважения к культуре, которая сделала возможным его образование/существование. Человек, который не знает и тысячной доли текстов, которые образовали цивилизацию, в которой он живет. Хотя знает в рамках этой тысячной доли что-то, что изучил по своей профессии, своему делу. Его не столько «научили», сколько натренировали выполнять функции. У человека отсутствует огромное пространство и опыт культуры. Впадая в состояние некультуры, мы впадаем в состояние бес-/недо-человеческого. Сверхчеловек, которому все по барабану. Все есть, и буду это приумножать. Не совсем человек. «Сверх-» всегда обращается в «недо-«. Все, что связано с этим образом превосхождения человеческого, – всегда падение, впадение в состояние ущербности, недостатка.
«Массовая культура» сейчас. Этот тип культуры с точки зрения многих социологов, историков, экономистов и других ученых, зарождается якобы в XIX веке. В ту эпоху, которую особенно критиковал Маркс. В среде «пролетариата» (это не имеет отношения к подлинному смыслу понятия «пролетариат» у Маркса). Зарождается потому, что население растет. Прежде всего население, принадлежащее к низшим и средним слоям. Оно работает, зарабатывает на жизнь, у него есть свободное время. Нужны способы заполнения досуга. Их должно быть много, это приобретает стандартные растиражированные формы. Дальше процесс ширится, и в ХХ веке мы имеем уже «индустрию культуры» как систему удовлетворения нужд населения. Нацеленность на коммерческий успех, легкость содержания, стандартность, отсутствие оригинальности – общепринятые ныне признаки массовой культуры.
Когда так развивается разговор о происхождении массовой культуры как культуры масс, то непонятно, почему она все-таки появляется только в XIX веке. Что раньше? Да, понятно: технологическая революция. Формы удовлетворения досуга представителей низшего класса: балаган, варьете, массовая литература – литература легкого содержания, которую можно быстро прочесть, пресса. Но в Средние века тоже были вполне стандартизированные формы досуга. Заполнять досуг человеку нужно было во все времена. Привязана ли сущность массовой культуры ко времени и количеству? У людей всегда был досуг, заполняли примерно одинаковым образом. Для народа организовывались гуляния. Массовая культура в этом плане не возникает в XIX веке, она была всегда. Но мы осознаём, что массовая культура ХХ века не то, что народные гуляния средневековья.
Ортега начинает работу с сопоставления слов «толпа» и «масса». Переключает читателя с количественного понимания на социологическое. Толпа – явление качественное. Тоже состояние человека: «стадное чувство» – многие люди становятся обезличенными, утрачивают адекватное восприятие реальности. Толпы были всегда. Толпы, которые ходили смотреть на казни. В толпу легко втекают представители разных сословий. Толпа как «чернь». Если она – то же самое, что масса, то получается, что это не новый феномен.
Толпа – понятие психологическое и социологическое. Если масса отличается, то она – нечто не психологическое и не социологическое. Толпа знала свое место в иерархии, а массе все равно, есть элита или нет. Феномен массы не связан с чем-то стихийным и всегда существующим. В толпе каждый понимает, что он в толпе. Толпа не будет претендовать на то, чтобы быть элитой. Человек в толпе будет либо сознавать, что он сейчас в толпе, либо не будет сознавать, но поймет позднее, что это – некое событие, в котором он участвовал и которое по тем или иным причинам было неизбежным. Толпа равна себе самой. Разница эпох тоже это проясняет. В Средние века была четкая иерархия, и каждый осознавал свое место. Ортега:
«Масса – это посредственность, и, поверь она в свою одаренность, имел бы место не социальный сдвиг, а всего-навсего самообман. Особенность нашего времени в том, что заурядные души, не обманываясь насчет собственной заурядности, безбоязненно утверждают свое право на нее и навязывают ее всем и всюду. Как говорят американцы, отличаться – неприлично. Масса сминает все непохожее, недюжинное, личностное и лучшее. Кто не такой, как все, кто думает не так, как все, рискует стать отверженным. И ясно, что «все» – это еще не все. Мир обычно был неоднородным и единством массы и независимых меньшинств. Сегодня весь мир становится массой»
Агрессивность, стремление к экспансии, расширению – изначальная черта массового человека. Мое право на посредственность и навязывание ее всем и всюду. «Масса сминает все непохожее». Это напоминает толпу, которая нахлынула и снесла все. Толпу трудно контролировать, но это культурный феномен. Толпы во многом творят историю культуры. Толпа, собравшаяся во дворе Понтия Пилата. При всей стихийности (полчища войск Чингисхана тоже толпа – размеры разные), толпа встроена в культурный процесс преобразования человеком пространства и времени. Масса из этого исключена. Она – феномен, инородный даже толпе. Тогда откуда берется и что она по сути собой представляет? Какое это состояние? Толпа – психо-социологический феномен. Масса не пойдет свергать царя. «Человек-масса». Речь о том, что каждый – масса. Может никого не быть вокруг, а человек-масса останется таковым. Со всеми техническими навыками, которые дала ему культура. Как и Робинзон. Но он еще чему-то научился. А вот человек-масса на острове…
Имеем новый этап в движении культуры. Ортега неким образом подытоживает то, что у Маркса уже звучало. Тот вынужден был проигнорировать этот аспект и подчинить свою работу мысли освобождению от рабства. Экономика – законы дома, человек обустраивает свой дом. Политика – от «полиса» как пространства, в котором человеческое сообщество может достигнуть благосостояния, и для этого все должны потрудиться (не поработать). И вот, явление массового человека на мировой сцене – искажение политико-экономического климата цивилизации. В значении дома, города, пространства, где все хотят хорошо жить сообща, и в качестве «номоса» – закона, полагаемого человеком.
Можно назвать массу явлением духовным, противопоставив социальному и культурному (измерениям, в которых возможна и толпа). Или, если угодно, анти-духовным, но принадлежащим к порядку духовного. Духовное измерение связано с мыслью, пониманием существа человека как мыслящего и мыслью живущего. Преобразование этого воспринимаемого воздействия в иную реальность – мысль, мышление. Речь о некоем фундаментальном искажении мыслительной способности человека. Тема искажения, деградации мыслительной способности человека как существа, которое не живет иначе как мысля. Когда он этого не делает, становится похож на животное.
В политическом аспекте Ортега предвосхитил тоталитарные режимы. Теорию тоталитаризма разовьет Ханна Арендт, во многом продолжая то, что осталось брошенным у Ортеги. Массовый человек упивается своими возможностями, даже если это возможности дебила. С государством у него тогда складываются своеобразные отношения. Это требование комфорта. Человек-масса не то чтобы ленив, но он не хочет делать того, что выходило бы за пределы его благополучного состояния. Не хочет напрягаться лишний раз. Он хочет, чтобы государство о нем заботилось, делегирует свои человеческие права – важнейшим из которых является принятие решения о себе самом, свобода – государству. Сознательно или не очень отрекается от них. Тем самым заведомо соглашается на то, чтобы государство не просто давало ему все, что он хочет, но и делало с ним все, что оно хочет. Так возникнет тоталитарный режим. По причинам чисто техническим тоталитарные режимы просуществуют недолго. Но появятся и гораздо более утонченные формы господства, гораздо более тонкие формы упрочения власти. Все они связаны с отказом человека от самого важного в себе. Арендт скажет, что человек отказался думать. Не возможности лишился, а выбрал не думать.
Живые категории. Не технический процесс, рассчитывание чего-то в голове. Мысль – форма жизни, которая захватывает всего человека. Употребляя слово «жизнь», Ортега исходит из понятия «жизнь» как чего-то первичного, что составляет природу человека.
«Жизнь – это прежде всего наша возможная жизнь, то, чем мы способны стать, и как выбор возможного – наше решение – то, чем мы действительно становимся».
Тема открытости человека. Человек как задание. Вся культура об этом говорит. Ортега об этом говорит как о сущности жизни. То, как мы выполняем задание, которое нам дано – «мир». Поэтому у каждого свой мир. Мир это человек и то, как он себя осуществляет. Он никогда не завершен.
«Жизнь не выбирает себе мира… Жить – это вечно быть осужденным на свободу, вечно решать, чем ты станешь в этом мире. Даже отдаваясь безнадежно на волю случая, мы принимаем решение – не решать».
Личная, политическая, интеллектуальная жизнь. Она же синоним культуры. Необходимость решения. «Быть осужденным на свободу» – невозможность для человека существовать иначе, как в форме становления. Иначе, как развиваясь и будучи собой. Свобода – быть собой. Не зависеть от того, что говорят другие и так далее. Это – жить по-человечески. Это мыслить, проживать мысль. Работать как жить работой. Читать как жить тем, что ты читаешь. Ортега развивал категорию жизни в особом ключе.
Человек-масса к этому не причастен. Он вне жизни. Ортега говорит: XIX век повинен во всем. Новый темп технического прогресса был задан, население растет. Средневековый человек никогда не исключал себя из жизни, всегда думал, мыслил. Мыслить можно и не сильно заморачиваясь и не умея читать, не будучи погруженным в тексты. А можно закончить университет и не уметь думать. Нельзя быть умным глупым, а глупых умных полнó. У человека появляется возможность выбросить себя из стихии культуры и жизни, а думать, что живет классно. Не жить вообще, не быть подобным человеку и достойным имени человека, а думать, что живет полноценно.
Растет население. Прогресс. Либеральная демократия. Демократия по своей природе иллюзорна. Может быть лучшим из того, что до сих пор придумал человек. У Ортеги это заряжено иронией. «Демос» – толпа как чернь, а не народ. Особенно в эпоху нашей эры. Если ей дать «кратию», власть, то лучше потом от нее держаться подальше. Не справится она с нею. Есть способ достичь определенного уровня благ и их поддерживать, если ввести общество в иллюзию (в том числе в прямом смысле игры), и тогда люди будут думать, что возможна власть народа, возможна свобода в рамках демократий. На деле они оказываются рабами нового мирового порядка, как писал Маркс. И сегодняшний мировой порядок порабощает человека, потому что он нацелен на воспроизводство одних и тех же механизмов, обеспечивающих иллюзию жизни массовому человеку, иллюзию демократии и возможности влиять на политику, иллюзию жизни и мышления. Весь мировой порядок работает на воспроизводство этой химеры.


Счастье? Нет, спасибо
Если и существует человек, которого можно назвать героем нашего времени, то это канадец Кристофер Уайли, гей и веган. В 24 года он основал Cambridge Analytica — аналитическую фирму данных, претендующую на ключевую роль в референдуме по выходу Британии из членства в Евросоюзе. Позже Уайли стал главным по цифровым операциям во время избирательной кампании Дональда Трампа, создав инструмент психологической войны Стива Бэннона. Уайли планировал взломать Facebook и собрать персональные данные миллионов американских пользователей, чтобы создать сложные психологические портреты и затем нацелить их на политическую рекламу, разработанную для определенного типажа людей. В какой-то момент Уайли серьезно испугался:
«Это безумие, — подумал он, — компания создала психологические профили 230 миллионов американцев. И теперь они хотят работать с Пентагоном? Это как Никсон на стероидах».
Эту историю делает увлекательной то, что она сочетает в себе элементы, которые мы обычно воспринимаем как противоположные. Так, движение альтернативных правых (альт-правых) обращается к проблемам обычных трудящихся глубоко религиозных людей, выступающих за традиционные ценности и против развращенных эксцентриков, таких как гомосексуалисты, веганы и ботаники. И теперь мы узнаем, что именно какой-то умник-ботаник организовал победу альтернативных правых на выборах.
Однако кроме юмора в этой истории есть еще кое-что: она прямо указывает на бессодержательность альт-правого популизма, который должен использовать современные технологии для сохранения своей деревенской привлекательности. Кроме того, история с Cambridge Analytica рассеивает иллюзию, что быть маргинальным компьютерным ботаником равнозначно занимать «прогрессивную» антисистемную позицию. Если внимательно изучить историю Cambridge Analytica, то станет понятно, как холодная манипуляция, любовь и забота о благосостоянии человека являются двумя сторонами одной медали. В новом военно-промышленном комплексе больших данных Psy-Ops, появившимся в Нью-Йоркском книжном обзоре, Тамсин Шоу обсуждает роль частных компаний в разработке и развертывании государственных поведенческих технологий. Образцовым примером таких компаний является, естественно, Cambridge Analytica:
«Центральное место в истории аналитической компании занимают два молодых психолога. Один из них — Михаил Косинский со своим коллегой из Кембриджского университета Дэвидом Стиллвелом разработал приложение, которое измеряет черты личности, анализируя «лайки» в Facebook. Затем приложение было использовано в сотрудничестве с проектом World Well-Being, группой в центре позитивной психологии Пенсильванского университета, специализирующейся на использовании больших данных для оценки здоровья и счастья в целях улучшения благосостояния населения. Другой психолог — Александр Коган также работает в области позитивной психологии. Коган написал несколько статей о счастье, добре и любви (согласно его резюме, первый материал назывался «Вниз по кроличьей норе: единая теория любви»). Помимо этого, Коган руководил лабораторией Просоциального поведения и благополучия с содействием Института благополучия Кембриджского университета».
Здесь нас должно привлечь то, что исследования со странным пересечением тем любви, доброты и заботы были заказаны обороной и разведкой. Почему в них так заинтересованы спецслужбы и оборонные подрядчики, а зловещая DARPAⓘDARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) — Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США/ — Прим. пер. всегда остается в тени? Исследователь Мартин Селигман воплотил это пересечение в своей работе. В 1998 году он основал направление позитивной психологии, изучающее черты и привычки, которые помогают человеку достичь счастья и благополучия. В то же время на его работу обратили внимание военные, они же стали спонсорами и главной группой для реализации его идеи повысить устойчивость солдат.
Таким образом, тематическое пересечение не навязано поведенческим наукам злыми политическими манипуляторами; оно подразумевает их имманентную ориентированность:
«Цель этих программ — не только проанализировать наши подсознательные состояния, но и найти средства, которые будут вести нас к благополучию в понимании психологов-позитивистов; то есть к благополучию с признаками устойчивости и оптимизма».
Проблема в том, что подобные исследования будут подталкивать людей к иррациональному поведению, а современные поведенческие науки, скорее:
«…стремятся использовать эту иррациональность, чем корректировать ее. Получается, что наука, направленная на развитие поведенческих технологий, рассматривает нас не как рациональных агентов, а как субъектов, которыми можно манипулировать. Если эти технологии становятся ядром американских военных и разведывательных кибер-операций, то нам нужно прикладывать больше усилий, чтобы эти тенденции не повлияли на повседневную жизнь нашего демократического общества».
После скандала в Cambridge Analytica эти события и тенденции были широко освещены за пределами либеральных медиа. Их можно связать с последними достижениями в биогенетике (устройство человеческого мозга и т.д), которые предоставляют пугающий образ новых форм социального контроля и делают старый добрый тоталитаризм двадцатого века довольно примитивной и неуклюжей машиной доминирования. Чтобы охватить весь объем этого контроля, необходимо выйти за рамки связей между частными корпорациями и политическими партиями (как в случае с Cambridge Analytica) и перейти к взаимопроникновению компаний по обработке данных, таких как Google или Facebook, а также органов государственной безопасности. Ассанж был прав в своей ключевой книге о Google ⓘJulian Assange, When Google Met WikiLeaks, New York: OR Books 2014, которую так странно игнорировали: чтобы понять, как наша жизнь регулируется сегодня и почему это регулирование мы воспринимаем, как свободу, нужно сосредоточиться на теневых отношениях между частными корпорациями, которые контролируют открытые и секретные государственные учреждения. Нас должно шокировать не китайское, а наше общество. Мы принимаем те же правила, полагая, что они сохранят нашу полную свободу, а средства массовой информации просто помогают нам осуществить наши желания, в то время как в Китае люди полностью осознают, что их желания находятся под контролем. Самым большим достижением нового когнитивно-военного комплекса стал новый метод контроля — прямое и очевидное угнетение больше не нужно: индивидами гораздо лучше руководить, когда они продолжают ощущать себя свободными и автономными агентами собственной жизни…но все это хорошо известные факты, и мы должны сделать шаг вперед.
Преобладающая критика идет по пути демистификации: под невинными исследованиями счастья и благополучия она различает темный скрытый гигантский комплекс социального контроля и манипуляций, осуществляемых объединенными силами частных корпораций и государственных учреждений. Необходимо предпринять обратные меры: вместо того, чтобы вглядываться в «темную сторону» исследований о счастье, мы должны сосредоточиться на самой форме. Действительно ли тема благополучия и счастья (по крайней мере, в той формулировке, которая существует сегодня) в научных исследованиях так невинна, или же контроль и манипуляция проходят в ней лейтмотивом? Что, если исследователи предвзяты? Что, если они ищут то, что хотят найти? Мы должны сомневаться в объективности «исследований счастья» — почему в эпоху одухотворенного гедонизма целями в жизни становятся счастье, низвержение тревоги и депрессии? Именно загадка этого разрушающего нас счастья и удовольствия делает фрейдовскую теорию более актуальной, чем когда-либо.
Как это часто бывает, Бутан, развивающаяся страна третьего мира, наивно изложил абсурд социально-политических последствий понятия счастья. Двадцать лет назад король Бутана Джигме Сингай Вангчук решил сосредоточиться на валовом национальном счастье (ВНС), а не на валовом национальном продукте (ВНП). Джигме стремился править Бутаном в современном мире, сохраняя свою идентичность. Сейчас, когда давление глобализации и материализма растет, крошечная страна готовится к своим первым выборам, а ее чрезвычайно популярный новый король с оксфордским образованием, 27-летний Джигме Хесар Намгиел Вангчук, приказал государственному агентству рассчитать, насколько счастливы 670 000 жителей Бутана. Официальные лица заявили, что они уже провели опрос около тысячи человек и составили список параметров счастья, аналогичный индексу развития, который отслеживается ООН. Основные вопросы касались психологического благополучия, здравоохранения, образования, благого управления, уровня жизни, жизнеспособности общества и экологического разнообразия — прямо какой-то культурный империализм, если он когда-либо существовал.
Мы должны рискнуть нырнуть еще глубже, чтобы исследовать скрытую сторону самого понятия счастья. Когда именно можно сказать, что народ счастлив? В такой стране, как Чехословакия в конце 1970-80-х годов, люди были счастливы, потому как были выполнены три основных условия счастья. Во-первых, материальные потребности жителей Чехословакии были достаточно удовлетворены, но не слишком, поскольку избыток потребления сам по себе может породить несчастье. Полезно иногда испытывать нехватку некоторых товаров (пару дней без кофе, потом без говядины, затем без телевизоров). Периоды дефицита хоть и были исключениями, но напоминали людям, что они должны радоваться общедоступности товаров. Если дефицит в стране не случается, то люди начинают воспринимать доступность, как очевидное благо жизни, и перестают ценить эту возможность. Жизнь протекает размеренно и предсказуемо, без больших усилий и потрясений, и человек может уйти в свою личную нишу. Второе условие счастья — во всем, что пошло не так, виноват другой, что позволяет человеку не чувствовать себя по-настоящему ответственным. Если была временная нехватка некоторых товаров, если штормовая погода причинила большой ущерб, то в этом виноват кто-то другой. И, наконец, существовало так называемое «другое место» — консьюмеристский Запад, о нем можно было мечтать, иногда даже посещать. Запад был на правильном расстоянии: не слишком далеко и не слишком близко. Чем было нарушено это хрупкое равновесие? Правильно, желанием. Желание было той силой, которая заставила людей двигаться дальше, и в конечном итоге оказаться в системе, в которой значительное большинство, безусловно, оказывается менее счастливым.
Таким образом, счастье по определению (в самом своем понятии, как выразился бы Гегель) запутанно, неопределенно, непоследовательно. Вспомним пресловутый ответ немецкого иммигранта в США, который на вопрос «Вы счастливы?», ответил:
«Да, да, я очень счастлив, но счастье это ничто».
Это языческая категория: для язычников цель жизни — жить счастливо (идея жить «счастливо в вечности» уже христианизированная версия язычества), а религиозный опыт или политическая деятельность сами по себе считаются высшей формой счастья (см. Аристотель). Неудивительно, что Далай-Лама, недавно проповедовавший по всему миру идею счастья, имеет такой успех, и неудивительно, что он находит наибольший отклик именно в США, этой конечной империи (преследования) счастья. Счастье зависит от неспособности и неготовности субъекта в полной мере противостоять важности своих желаний; ценой счастья становится то, что человек застревает в противоречивости своих желаний. В нашей повседневной жизни мы (притворяемся) желаем то, чего на самом деле не желаем, так что, в конечном счете, самое худшее, что может произойти, — это получить то, что мы «на самом деле» желаем. Таким образом, счастье по своей сути лицемерно: счастье — это мечты о вещах, которых мы не хотим.
Разве мы не сталкиваемся с подобным поведением в большей части левой политики? Когда леворадикальная партия проигрывает на выборах и теряет возможность получить власть, часто можно обнаружить скрытый вздох облегчения: «Слава богу, что мы проиграли, кто знает, какие неприятности могли произойти, если бы мы победили…». Большинство левых Великобритании неофициально признают, что «почти победа» Лейбористской партии на последних выборах — это лучшее, что могло случиться, гораздо лучше отсутствия безопасности и определенности в ситуации, если бы лейбористское правительство пыталось реализовать свою программу. То же самое относится и к перспективе окончательной победы Берни Сандерса: каковы были бы его шансы против натиска большого капитала?
Мать всех этих положений — советская интервенция в Чехословакию, сокрушившая Пражскую весну и ее надежду на демократический социализм. Представим себе ситуацию в Чехословакии без советского вмешательства: очень быстро «реформистскому» правительству пришлось бы столкнуться с тем, что в тот исторический момент не было реального шанса на демократический социализм. В результате ему пришлось бы выбирать между восстановлением партийного контроля, то есть установлением четкого предела свобод, и предоставлением Чехословакии возможности стать одной из западных либерально-демократических капиталистических стран. В некотором смысле советская интервенция спасла Пражскую весну, спасла ее как мечту, как надежду на то, что без советского вмешательства могла бы возникнуть новая форма демократического социализма. Не произошло ли чего-то подобного в Греции, когда правительство партии СИРИЗЫ организовало референдум против давления Брюсселя, чтобы принять политику жесткой экономии? Многие внутренние источники подтверждают, что правительство втайне надеялось проиграть референдум, и в этом случае ему пришлось бы уйти в отставку и предоставить другим выполнять грязную работу жесткой экономии. Поскольку они победили, эта задача выпала на их долю, и результатом стало самоуничтожение левых радикалов в Греции. Без сомнения, СИРИЗА была бы гораздо счастливее, если бы проиграла референдум.
Итого: нас контролируют и нами манипулируют, а «счастливые» люди целенаправленно поддаются манипуляциям, чтобы оставаться счастливыми. Суть в том, что правда и счастье несовместимы; истина причиняет нам боль, дестабилизирует или вовсе разрушает беспечное течение нашей повседневной жизни. Так что выбор за нами: быть счастливыми жертвами манипуляций или рисковать и оставаться верными себе и готовыми на подлинное творчество людьми.


Как блуждающий ум стимулирует творчество
Друзья живописца эпохи Возрождения Альберхта Дюрера называли его мастером в искусстве блуждания ума. Как писал немецкий гуманист Виллибальд Пиркхаймер, Дюрер мог погружаться в собственные приятные размышления, и в эти минуты «казался самым счастливым человеком на Земле».
Многим из нас знакомы разные формы блуждания ума: прокрастинация, рефлексия, медитация, самобичевание, мечтательность. В то время как одни умственные блуждания кажутся продуктивными, другие несомненно оказываются частью вредных привычек, тех, что не дают нам развивать свой внутренний потенциал. Да, мечтательность может дать передышку от реальности и стать источником вдохновения. В то же самое время нам знакома и руминация — склонность ума зацикливаться и бесплодно пережевывать одну и ту же жвачку, когда мы с собой наедине, особенно если находимся в тисках депрессии, тревожности или навязчивой идеи.
Может ли искусство само по себе быть катализатором, который подталкивает нас к более продуктивным эмоциям и психическим состояниям? Многие из нас знают, что взаимодействие с искусством, будь оно в форме литературы, рэпа или абстрактной живописи, улучшает направление и ход наших мыслей. У немцев есть прекрасная поговорка о пользе бездействия (лености) ума: «die Seele baumeln lassen», что означает «Позвольте душе воспарить». Сейчас развивающаяся наука нейроэстетика пытается исследовать биологические процессы, стоящие за такими «воспарениями».
Нужно отметить, что современная когнитивная наука представила корпус доказательств того, что психические состояния посылают и принимают волны причин и следствий через все тело. Вспомните, как ваш рот наполняется слюной, когда вы смотрите на фотографию аппетитного шоколадного торта, или какое напряжение вы испытываете, когда смотрите захватывающий фильм. Мысли, чувства и эмоции, неосознанные или осознанные, представляют собой соматический каскад из множества биологических процессов. И искусство каким-то образом включается в этот каскад.
Гален, древнеримский врач греческого происхождения II века, многое знал о связи разума и тела. Он считал, что блуждание ума есть результат физического и умственного утомления, и поэтому предписывал режим логичной, тяжелой, структурированной работы, чтобы избежать этого. «Лень переполняет тела кровью!» — эту фразу приписывают Галену. Имеется в виду, что концентрация — это своего рода психобиологическая тренировка, к которой мы должны обращаться, чтобы держать в узде наши своенравные умы и тела.
Тем не менее, согласно еще более ранней традиции, склонность к грезам рассматривалась как ключ к благополучию. Предок Галена, древнегреческий врач Гиппократ, утверждал, что блуждание ума является лучшим способом сохранения здоровья. Современные исследования по психологии развития доказали, что дети и взрослые, склонные к задумчивости, проявляют большую когнитивную гибкость и лучше справляются с «управленческими» функциями, будь то решение проблем, планирование или управление собственными мыслями и чувствами.
ейровизуализация как метод наблюдения за мозгом в действии помогает выявлять мозговые процессы, которые коррелируют с соотвествующими психическими состояниями. Если проследить за мозгом людей, находящихся в покое и ни о чем не думающих, выяснится, что мозг не бездействует, он активизируется в участках, составляющих сеть пассивного режима работы мозга (СПРРМ). Она тесно связана с работой зон, отвечающих за самореферентное мышление, опыт самости и интуицию. Более того, эти же паттерны активности задействуются параллельно с активацией паттернов в префронтальной коре мозга (ПК) — той области, которая обычно ассоциируется со всеми важными «исполнительными» функциями. Поразительно, что чем сильнее взаимосвязь между этими двумя областями мозга — интуицией и исполнительной функцией — тем большую степень креативности проявляет человек при решении проблемы.
Сканирование мозга показывает корреляцию, но не причинно-следственную связь; но даже в этом случае есть намек на то, что задумчивость может побудить нас мыслить более продуктивно и творчески, каким-то образом укрепляя наше чувство собственного «я», объединяя тело и ум в цепочку мыслей и биологических действий. Искусство может быть как катализатором такого рода мечтаний, так и инструментом регулирования и контроля. Основные свойства искусства (гармонические тональности минор или мажор, цвета картины) и глубина его содержания (текст песни, выражение лица человека на картине) могут вызывать размышления и эмоции — и неизменно будут влиять на физиологию нашего тела. Согласно исследованиям, творческое мышление и взаимодействие с произведениями искусства коррелировали с деятельностью СПРРМ, особенно когда люди сообщали, что эстетический опыт был особенно сильным и значимым для них. Похоже, что в эти моменты наша встреча с искусством запускает автобиографические видения, потоковые переживания, касающиеся «я-фактора».
Безусловно, искусство может быть причиной бесполезной задумчивости. Прослушивание одной и той же песни на повторе не поможет вам преодолеть горе. Но печаль, вызванная искусством, не всегда помещает нас в умственные тиски. На деле искусство может помочь нам адаптироваться к непосредственному источнику боли и выступить как опора для эмоционального катарсиса. Нам всем знакомо странное, приятное, утешительное ощущение, которое приходит после того, как мы хорошо проплакались. Оказывается, это связано с выбросом гормона пролактина, который задействован в укреплении иммунной системы и установлении связей с другими людьми. Искусство становится относительно безопасной площадкой для эмоциональных переживаний, по сравнению с реальными ситуациями, которые доводят нас до слез. Даже грустное или удручающее нас искусство можно использовать, чтобы вызвать своего рода позитивное, психобиологическое очищение с помощью блуждания ума.
В истории множество примеров связи мечтательности и творчества. Вот один из них: немецкий историк искусства Аби Варбург (1866-1929) организовал свою библиотеку из 50 тысяч книг так, чтобы их расположение способствовало мысленному блужданию. Его коллекция стала сердцем Института Варбурга в Лондоне, где мы сейчас проводим свои исследования. Каждый из четырех этажей библиотеки отведен под одну из четырех тем — образу, слову, ориентации и действию, которые в свою очередь разделены на подтемы: «магия и наука», «передача классических текстов» и «история искусств». Уникальных подход Варбурга в поиске хорошего соседа для тех или иных книг ставит увядший медицинский том XVII века на одну полку с текстами по математике, космосу и гармонии. Такое расположение книг на полке способствует интеллектуальной интуитивной прозорливости, когда вы переходите от захватившей ваши мысли книги к другой интригующей идее или теме, которая вам даже не приходила в голову.
Искусство высоко ценят в большинстве культур и обществ. Часто его изображают как кропотливое познавательное упражнение, забывая при этом, что искусство дает возможность для интенсивных эмоциональных переживаний, позитивных размышлений и психобиологической саморегуляции. Дюрер, пожалуй, лучше всего уловил пользу такого бездействия в словах:
«Когда человек посвящает себя искусству, — писал он, — многих бед он избежит, если не будет бездельничать».